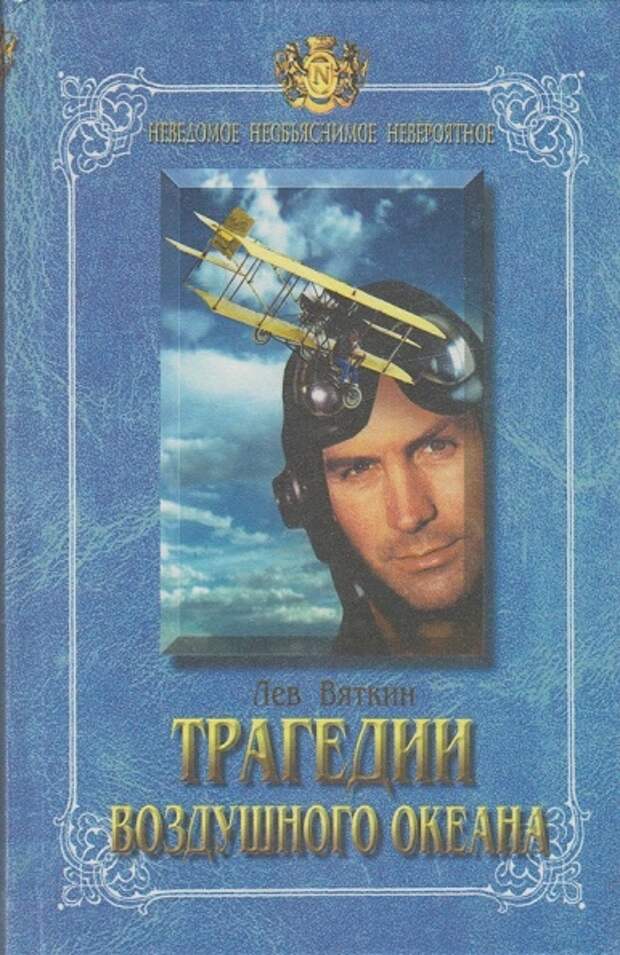
«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» ФРАНЦА ЛЕППИХА
Император принимает решение...
Под влиянием докладов генерала Львова, совершившего вместе с Гернереном первый в России успешный полет на воздушном шаре, молодой император Александр I зажегся идеей постройки воздушной флотилии, которая могла бы взаимодействовать с армией.
Возникновению этого замысла способствовали также реляции русского посла во Франции князя Барятинского, писавшего в Россию о полетах шаров братьев Монгольфье. Помимо этого, русским военным было хорошо известно о «школе аэростьеров» Жана Кутеля в Медоне, готовившей воздушных наблюдателей и специалистов воздухоплавания.
Поэтому предложение 37-летнего немецкого механика Франца Леппиха о возможности постройки управляемых воздушных шаров было для императора Александра накануне войны с Наполеоном как нельзя кстати.
В архивах сохранилось письмо Д.М. Алопеуса, русского посланника при Штутгарте при дворе герцога Вюртембергского, датированное 22 марта 1812 года и отправленное, как особо важное, со специальным курьером. Посланник сообщал, что он принял немецкого механика и музыканта Леппиха, занимающегося изобретательством, который предложил интригующий проект. «Ныне сделано открытие столь великой важности,— писал Алопеус,— что оно необходимо должно иметь выгоднейшие последствия для тех. которые первые оным воспользуются. Оно мне было вверено под настоятельным
условием довесть оное прямо до сведения Вашего Императорского Величества без посредства третьего лица...
Открытие сие состоит в управлении аэростатического шара, в конструкции воздушного корабля, который вмещать будет в себя нужное число людей и снарядов для взорвания всех крепостей, для остановки или истребления величайших армий».
Секретная реляция Алопеуса побудила русского императора сделать ставку на флотилию управляемых воздушных кораблей и начать тайную подготовку к уничтожению великой армии Наполеона при помощи воздухоплавания!
Столь смелая задача была поставлена впервые как в истории войн, так и в истории техники. Письмо Алопеуса, экспертиза проекта, сделанная математиком Боненбергом, действующая модель механического весла, при помощи которого воздушный корабль должен был двигаться в «нужной дирекции».— все это выглядело вполне убедительно, и молодой император решил: «Быть посему!»
Воздушные шары не были для Александра в диковинку. Он знал их устройство, присутствовал на запусках и не скрывал своей заинтересованности воздухоплаванием, обсуждая с военными возможности использования привязных шаров для наблюдения во время боевых действий. Знал он и то, что еще никому не удавалось сделать их управляемыми, несмотря на многочисленные попытки, поэтому его быстрая реакция на предложение была вполне естественной. Он понимал всю важность применения нового оружия в предстоящей войне.
Довольно скоро Алопеус получил письмо от канцлера графа Румянцева, датированное 12 апреля 1812 года, где говорилось:
«Император Александр весьма доволен, что Вы употребили особенную ревность для того, чтобы воспользоваться новым изобретением, которое обещает важные последствия и обратит его в пользу службы Его Величества. Чтобы достать вам способы привесть в исполнение Ваше предложение и немедленно отправить в Россию как механика Леппиха, так и его рабочих, которые трудились над постройкой шара, вполовину уже готового, Император согласился на все Ваши предложения и вполне полагается на Вашу ревность к его службе».
Император в это время находился при русской армии в Вильно, где жили в напряженной тревоге, ожидая
объявления войны. Наполеон подтягивал к границе Российской империи огромную армию.
1 мая Леппих был доставлен в Вильно к Александру I. В приватной беседе он сообщил, что спешно бежал из Штутгарта. Изобретателем заинтересовались шпионы Бонапарта, и ему едва удалось скрыться.
Попутно он подтвердил, что всюду встречал войска, продвигавшиеся к русской границе. В заключение беседы он признался, что ненавидит Бонапарта и мечтает о возрождении независимой Германии.
Русский император произвел огромное впечатление на Леппиха: он свободно говорил по-немецки, обладал незаурядным, гибким умом и был обаятелен, учтив и терпелив к человеческим слабостям. Здесь же произошел один инцидент, имевший впоследствии большое значение и зафиксированный в мемуарах Аракчеева. Когда Александр склонился над чертежами «летучего корабля», Аракчеев, едва взглянув на них из-за эполета императора, громко и внятно пророкотал своим хриплым голосом: «Эта штука, государь-батюшка, никогда не полетит!» Александр вспыхнул, как юноша, и сказал так, что его слова услышали все присутствующие: «Пошел вон, дурак!»
Аракчеев поджал губы и, помрачнев, отошел в сторону, вызвав ухмылку у господ генералов.
Ознакомившись с чертежами «летучего корабля» и выслушав подробный доклад Леппиха, император предложил тому выехать в Москву и приступить к сооружению управляемого аэростата. При этом он сделал особый упор на то, чтобы задуманное предприятие сохранялось в тайне.
В обстановке строгой секретности Леппих прибыл в Москву. Император активно интересовался ходом работ по постройке «летучего корабля», о чем свидетельствует его переписка с московским губернатором Н.В. Обреско- вым и главнокомандующим по Москве Ф.В. Ростопчиным, которым была поручена организация этих работ. По указанию Александра Обресков подыскал место для строительства аэростата и размещения рабочих. Таким местом стала подмосковная дача Репнина (частично сохранившаяся поныне).
В одном из своих писем императору (от 30 июня 1812 года) Ростопчин сообщает: «Я подружился с Леп- пихом, и машина стала мне дорога, точно дитя. Леппих предлагает мне пуститься на ней в полет вместе с ним, но я не могу этого сделать без Вашего позволения, А повод прекрасен: Ваша слава и спасение Европы!»
Взгляд сквозь историю
Итак, на даче Репнина кипела работа. Сто пятьдесят плотников и кузнецов, а также швеи трудились над диковинным летательным аппаратом. Ростопчин уверял Александра, что строительство корабля удается держать в непроницаемой тайне. Плохо он знал москвичей!
Еще мадам де Сталь, незадолго до этого побывавшая в России, заметила: «В России все тайна и ничего не секрет!»
Профессор Московского университета Шнейдер, бывший в 1812 году студентом, оказал истории большую услугу, поведав нам чрезвычайно важные подробности, относящиеся к постройке первого в мире полноразмерного «дирижабля». Он своими глазами видел готовую 40-местную золоченую лодку-гондолу с рессорами, на которой солдаты-гребцы проходили тренировку. Леппих проявил удивительную сообразительность как инженер. Сначала он осуществил полную сборку «лодки», затем ее подвесили на кронштейнах, определили вес, после чего приступили к раскрою оболочки «летучего корабля», чем значительно упрощались математические расчеты по вычислению необходимого полного объема аэростата.
Вот что поведал профессор Шнейдер потомкам:
«В это время я, будучи студентом, жил на хлебах у купца, торговавшего сукном, Данкварта... Однажды, в июле месяце, я увидел, как в магазин вошли двое мужчин, один высокого роста, весьма красивый, белокурый и даже несколько рыжеватый, одетый в штатское платье, но казавшийся военным; другой — малорослый, полный и несколько неуклюжий. Первый из них, войдя в магазин, обратился к Данкварту, говоря: «Представляю вам моего друга доктора Шмидта. Мы украли из Австрии 450 рабочих и нам нужно их одеть. Есть ли у вас хорошее серое сукно?»
Это странное заявление обратило мое внимание, и за обедом я спросил моего хозяина: «Кто этот красивый покупщик?»
«Это капитан Фейхнер»,— отвечал мне Данкварт, сказав, что купленное им сукно и приготовленные потом из него одежды он должен доставить на дачу Репнина.
Будучи 18-летним юношей, я удовлетворился ответом и потом забыл о происшествии. Между тем в Москву приехал император. 15 июля, в день собрания дворянства и купечества в залах Слободского дворца, утром в часу первом, после уроков латинского языка в одном из домов, возвращаясь домой, я вышел на Ордынку, которая была наполнена народом, и вдали увидал приближающуюся к нам коляску: это ехал император. Я вышел на середину улицы, чтобы ближе на него посмотреть. Когда коляска проезжала мимо, я увидел, что рядом с государем сидел человек в черном фраке и со звездой, в котором я узнал барона Штейна... Я поспешил возвратиться в тот дом, где давал уроки, и с балкона в зрительную трубу мы наблюдали, как коляска государя проехала на Калужскую заставу и направилась на дачу Репнина. Тут я припомнил посещение магазина моего хозяина Фейхнером и Шмидтом, подумал, что если сам государь приехал на дачу Репнина, то, вероятно, там приготовляется что-нибудь очень важное.
Когда потом я возвратился домой, за обедом я рассказал об этом хозяевам и что видел в самой близи императора. Данкварт сказал: «А я едва-едва не столкнулся с ним». Он находился на даче Репнина в то время, когда туда приехал император вместе с бароном Штейном. Затем начался разговор, который возбудил мое любопытство, так что я начал просить Данкварта, чтобы он взял меня с собою, когда поедет на репнинскую дачу. «Это невозможно,— отвечал он на мою просьбу,— туда пускают по билетам, а у меня только один билет для меня лично».— «Но возьмите меня с собой, как вашего мастерового».— «Да, это можно»,— отвечал он мне.
Действительно, через несколько дней я отправился с ним на репнинскую дачу. Это был праздник. Работы не производились, и Леппих со своими сотрудниками были в саду и упражнялись в стрельбе в цель. Данкварта позвали туда, а я остался в доме, великолепные залы которого были превращены в мастерские и по роскошным паркетам разбросаны были разные материалы и инструменты. Перед окнами на дворе висела раззолоченная гондола и какие-то большие крылья.
Дача охранялась стражею, и мы проехали несколько караулов, прежде нежели попали туда. Они пропускали нас по предъявлению билета Данквартом.
Пока мой хозяин находился в саду, а я рассматривал окружавшие меня предметы в доме, ко мне подошел живой, несколько рябоватый господин и с улыбкою сказал: «Вы слишком любопытны, молодой человек». Я отвечал, что приехал с Данквартом и что я его рабочий.
«Рабочий! — заметил он,— А кто каждый день гуляет пс Ордынке с Грибоедовым и Паниным? Вы из университета!»
Я покраснел и смутился до такой степени, что, кажется, и не нашелся, что отвечать. Моя молодость и смущение, вероятно, произвели хорошее впечатление на моего собеседника; и он, улыбаясь, сказал мне, что не выдаст: «Только никому ни полслова не говорите о том, что вы здесь были и что услышите».
Это был доктор Шеффер, который и рассказал мне, что здесь приготовляется «воздушный шар, которого движения посредством крыльев можно управлять по произволу. Он подымет ящики с разрывными снарядами, которые, будучи сброшенными с высоты на неприятельскую армию, произведут в ней страшное опустошение».
К сожалению, чертежи «летучего корабля» до сей поры не найдены, сохранилось лишь известное по многим книгам изображение. Оно очень схематично и упрощено, явно по соображениям секретности, и до 1917 года хранилось в архиве собственной канцелярии императора. Впервые это схематическое изображение было опубликовано в Сборнике исторических материалов к столетию Военного министерства (в 1891 году). Другие, более подробные чертежи, видимо, были увезены Леппихом в Штутгарт.
Тем не менее мною была предпринята попытка разыскать их в архивах Москвы и Ленинграда. Первые три года дали мало нового, но некоторый «улов» все же был. Например, внимательное знакомство с письмами Леппиха, Ростопчина и императора Александра выявило, что помимо «летучего корабля» Леппих построил и испытал два или три значительно меньших аэростата, рассчитанных на подъем экипажа в 3—5 человек. В переписке они фигурируют под названием «machine еп petit» (машины малого размера). Их даже пробовали «в деле», жертвой которого стало стадо овец (на них сбросили фугасы), о чем много шло разговоров в Москве.
Все это указывало, что где-то должны быть чертежи деталей конструкции. Мною был составлен список лиц, которые так или иначе были причастны к тайне. Мне повезло — довольно скоро в Государственной библиотеке им. Ленина я обнаружил книгу А.С. Апраксина — сына знаменитого в свое время Степана Степановича Апраксина, генерала от кавалерии, известного хлебосола, любимца москвичей и друга Ф.В. Ростопчина.
Книга была издана в 1884 году и называлась «Воздухоплавание и применение его к передвижению аэростатов свободных и несвободных по желаемым направлениям». Будучи знатоком воздухоплавания, а также библиофилом и обладателем большой библиотеки, доставшейся ему по наследству от отца-генерала, автор явно воспользовался уже готовыми материалами, чертежами и результатами опытов, проводившихся в России в разные годы.
Обращают на себя внимание описания и чертежи, относящиеся к проблеме управляемых аэростатов, и среди них «малые машины», воздушные шары для ведения разведки, которыми позднее занимался Леппих. Изображения весел с клапанами наиболее интересны, так как помогают воссоздать важные детали, сделать математические расчеты и тем самым составить вполне научные и наиболее верные представления о возможностях летательного аппарата инженера Леппиха.
По сохранившемуся изображению видно, что этот аппарат имел форму рыбы. По ориентировочным оценкам, объем оболочки составлял 10 ООО м\ длина — 57 м, максимальный диаметр — 16 м, удлинение — 3 м. Она крепилась посредством сетки к жесткому обручу, опоясывавшему ее по периметру. К нему при помощи деревянных подкосов крепилась лодка-гондола размером 30x60 футов (9,9x9,8 м), имевшая жесткий киль и 14 шпангоутов. Вдоль бортов шла полу палуба, имелся полубак и шканцы (кормовая часть). Аппарат был оснащен управляемым стабилизатором.
Экипаж корабля должен был насчитывать 40 человек. В это число входила команда, приводившая в действие всю кинематику и обеспечивавшая поступательную (штилевую) скорость до 30—40 км/ч за счет момента сил (ход рессор и усилия гребцов).
Посредине лодки размещались пороховые фугасы и люк для сбрасывания их по цели. Судя по сохранившимся документам, решено было снабдить корабль ракетами, бывшими на вооружении русской армии. Эти ракеты (образца 1807 года) имели следующие характеристики: вес — 32—48 фунтов (13—20 кг), калибр—12—20 см, общая длина — 2 м, дальность стрельбы — 2700 м. Стрельба велась со станков в виде короткой трубы квадратного сечения с угломером.
Наличие боевых ракет на корабле не было чем-то необычным. В то время ракетная артиллерия входила в состав армий многих государств — Англии, Пруссии, Польши, России, Голландии, Швейцарии, Греции, Сардинии, Франции, Испании, Австрии, Италии и Сицилии. Ракеты могли нести бомбу весом до 60 кг. Достаточно сказать, что при осаде Копенгагена в 1807 году город был засыпан 34 тысячами раке!.
В конструкции корабля обращают на себя внимание довольно массивные подкосы. Это не случайно. При движении рессор экипажем «вперед-назад» площадь клапанов позволяла развить мощность порядка 11,8 кВт. Тяга при этом создавалась рывками и была столь значительной, что рессоры при испытаниях ломались и для изготовления новых требовалась хорошая сталь. Естественно, при этом создавались продольные усилия относительно лодки и обруча, к которому крепилась сеть. При сборке готового аппарата возникали и другие трудности.
Весьма важно понять, что «летучий корабль» был снабжен не крыльями, как думали ранее, а рессорами с клапанами, стоявшими почти вертикально, что делало его отнюдь не беспомощным. При этом отсутствовал руль поворота. Очевидно, что по замыслу конструктора развороты должны были выполняться посредством манипуляций рессорами по способу моряков: «Левая греби, правая табань!» и т.д.
Вообще, благодаря чертежам, обнаруженным у А.С. Апраксина, удалось воссоздать кинематику «летучего корабля» и сделать необходимые расчеты. При этом интересно сравнить мощность мускульного двигателя Леппиха с характеристиками дирижаблей, построенных в более поздние годы. В этом случае представляется возможность судить о прочих маневренных и скоростных характеристиках корабля.
Мощность парового двигателя первого летающего дирижабля Жиффара (1852 г.) составляла всего 2,2 кВт. Мощность газового дирижабля Генлейна (1872 г.) была порядка 2,6 м/с. Мощность электрического двигателя дирижабля братьев Тиссандье (1883 г.) —около 1,1 кВт, скорость — 4 м/с. Электродвигатель дирижабля Ренара и Кребса (1884), впервые в мире описавшего замкнутую кривую со скоростью 6,5 м/с,— 6,6 кВт. Бензиновый двигатель дирижабля Сантос Дюмона (1896), развившего скорость порядка 2,5 м/с,— 2,2 кВт. Наконец, знаменитые двигатели Даймлера, которые решили главную проблему управляемого воздухоплавания, на дирижаблях Цеппелина и Шварца (1897—1900 гг.) имели мощность 11,8—21,3 кВт. Так что даже на их фоне «летучий корабль» Леппиха (как уже говорилось, почти 12 кВт и до 40 км/ч) выглядит внушительно.
Монографии по истории воздухоплавания — М.Л. Франка (СПб., 1911 г.), К.Е. Вейгелина (СПб., 1914 г.), Найденова (СПб., 1914 г.) и др.— содержат изрядное количество изображений проектов аэростатов, которые никогда не были построены из-за явной нелепости конструкции, противоречившей законам физики и аэродинамики. Однако к ним даны подробные описания. Я имею в виду полуфантастические проекты Массе, Карра, Менье, Тетю-Бесси, Скотта, Жюлли, Жене, Лено, Петена, Сансона и др. И эти мертворожденные проекты живут в книгах и даже календарях!
А «летучий корабль» был построен полностью и, по утверждению его создателя в письме к императору, дважды поднимался в воздух, однако из-за поломок рессор и низкого качества водородо-воздушной смеси не мог нести на себе команду «гребцов» в полном составе, вследствие чего переместить его в ставку фельдмаршала М.И. Кутузова не удалось. Возможно, по этой же причине Леппих не смог совершить и два других перелета: из Ораниенбаума в Петербург, а затем в Варшаву.
Почему историки не обратили внимание на столь важные факты? Причин несколько. Первая — отсутствие подробных чертежей аппарата. Вторая — не было проведено строгого научного анализа имеющихся документов.
Между тем император и прочие посвященные в тайну строительства «летучего корабля» с нетерпением ждали первого полета.
Александр — Ростопчину С.-Петербург, 8 августа 1812 года.
«...Как только Леппих окончит свои приготовления, составьте ему экипаж для лодки из людей надежных и смышленых и отправьте нарочного с известием к генералу Кутузову, чтобы предупредить его. Я уже сообщил ему об этом предприятии. Но прошу Вас рекомендовать Леппиху быть очень внимательным, когда он будет опускаться в первый раз, чтобы не ошибиться и не попасть в руки неприятелю.
Необходимо, чтобы он согласовал свои действия с действиями главнокомандующего, поэтому, прежде нежели он их начнет, необходимо, чтобы он опустился в главной квартире и переговорил с главнокомандующим.
Скажите ему также, чтобы был осторожен, спустившись на землю, поднял и укрепил свой шар с помощью веревки, чтобы он не был окружен и изучен любопытными армейцами, среди которых может оказаться какой-нибудь вражеский шпион»,
Кутузов, извещенный о скором окончании работ Леппихом, проявил большую заинтересованность. За четыре дня до Бородинского сражения он посылает в Москву письмо.
Кутузов — Ростопчину 22 августа 1812 года.
«Государь император говорил мне об еростате, который тайно готовится близ Москвы. Можно ли им будет воспользоваться, прошу мне сказать, и как его употребить удобнее. Надеюсь дать баталию в теперешней позиции, разве неприятель пойдет меня обходить, тогда я должен буду отступить, чтобы ему ход к Москве воспрепятствовать».
В тот же день на домах и круглых тумбах на Тверской, Варварке, Божедомке, Маросейке, Остоженке и в Замоскворечье появились «афишки» Ростопчина, около которых собирался московский люд. Кто-нибудь из грамотеев громко и выразительно читал текст, остальные сосредоточенно внимали.
«Здесь мне поручено,— говорилось в «афишке».— от государя сделать большой шар, на котором 50 человек полетят куда захотят, по ветру и против ветра; а что от него будет, узнаете и порадуетесь! Если погода будет хорошая, то завтра или послезавтра ко мне будет маленький шар для пробы. Я вам заявляю, чтобы вы, увидя его, не подумали, что это от злодея; а он сделан к его вреду и погибели...»
Несмотря на всеобщую тревогу, висевшую в воздухе, прочитанное обсуждали с жадным интересом. Очевидцы тех событий и историки отмечали, что среди населения прекратились все ссоры, все неудовольствия. «Составилось общее братство отважное. Время быстро протекшее, время Еместе ужасное и блаженное... Кто видел это время, тот по гроб его не забудет!»
Так официально было сообщено о «летучем корабле» инженера Леппиха, мечтавшего сокрушить Наполеона при помощи своего изобретения и открыть человечеству новую эпоху. После этого москвичи с нетерпением поглядывали в небо, пытаясь увидеть меж белоснежных облаков диковинный, почти сказочный корабль. Однако события приняли неожиданный оборот...
Камень преткновения
Наполеон продолжал продвигаться в глубь России. С большой тревогой и недоумением он взирал на странно опустевшие города и села. Его чрезвычайно удивляло то, что крестьяне уходили с родных мест, забрав скот и кое-какие пожитки, и отступали вместе с русской армией. Маршал Ней уверял, что русские бабы часто бывают вооружены и французские солдаты их побаиваются. Это его раздражало.
Наполеон на каждой версте ощущал поразительное единство русской нации, чего не было в Европе во время его военных кампаний...
Между тем тревога в Москве нарастала с каждым днем. Наступил уже август, и Леппих спешил. Оболочка была готова, швы тщательно заделаны, а материя пропитана лаком, составленным московским химиком Шеффером. Под его руководством в первых числах августа приступили к наполнению оболочки «летучего корабля» водородом. Это оказалось сложным делом. Огромная оболочка из тафты наполнялась крайне медленно.
Из вышеприведенного рассказа профессора И. Шнейдера видно, что строительство «летучего корабля» было хорошо продумано: лодка-гондола подвешена под окнами дворца, оболочка, сшитая на паркете зала, затем была растянута на столбах с блоками над крышей дворца (прямо над лодкой) и тут же проходило наполнение ее водородом. И первый полет корабля осуществлялся с крыши дворца.
Вокруг дачи Репнина огромное количество бочек с серной кислотой и железными опилками расположили, в коих беспрерывно шла химическая реакция.
День и ночь люди неустанно следили, как по матерчатым рукавам газ перетекает в «тело еростата», а оно постепенно приобретало форму «рыбы» и ветер далеко разносил запах сероводорода.
Разразившиеся грозы с проливным дождем чуть было не погубили всю работу Леппиха. Оболочка намокла, в купорос попало много воды... Леппих с тревогой заметил, что качество извлеченного газа упало. Люди выбились из сил, спасая все предприятие от «разверзшейся небесной хляби».
Более всех нервничал Ростопчин. События принимали крайне угрожающий характер. И он стал склоняться к мысли, что если не удастся отстоять Москву, то первопрестольную придется предать всепожирающему огню.
Ростопчин — Багратиону 12 августа 1812 года
«...С крайним прискорбием узнал о потере Смоленска. Ополчение здешнее готово и завтра 6 тыс. будут на биваке, остальные же сводятся к Верее и Можайску. Ружей, пороху и свинцу — пропасть, пушек 145 готовых, патронов 4 980000...
Но если Бог поможет... то, следуя русскому правилу: «Не доставайся злодею!», обратит город в пепел и Наполеон получит вместо добычи место, где была столица... и найдет уголь и золу» (Остается добавить, что французы при этом лишались бы зимних квартир.)
Наконец «летучий корабль» инженера Леппиха, слегка покачиваясь на якорях и длинных прочных швартовых, прикрепленных к носу и корме и удерживаемых солдатами из специальной команды, был готов к полету. Надо признать, что на очевидцев он производил потрясающее впечатление!
Полностью взять штатный экипаж из 40 человек (плюс фугасы и ракеты) «летучий корабль» не смог... Поэтому ограничились минимальным количеством людей, фугасов и ракет...
Вероятно, при благоприятных условиях, если бы не возникло проблем с громоздкими рессорами, Леппих скомандовал бы «отдать концы» и отправился в сторону русских войск.
Кто сжег Москву?
Барклай де Толли ревностно следил за порядком при отступлении русской армии. Целых 18 часов он не сходил с коня. Его адъютанты были посланы в разные точки Москвы и на переправы и немедленно доносили, если случался затор.
Так и не успев провести ходовые испытания и ремонт «летучего корабля», Леппих был вынужден выпустить из оболочки с таким трудом добытый водород и на 136 подводах вывезти свое хозяйство под Петербург. Кроме того, он полностью поступал в распоряжение Аракчеева, в ведении которого находилось снабжение русской армии. Получив от Александра приказ эвакуировать «еростат», Аракчеев, скрепя сердце, и тут проявил невероятную исполнительность. Подвод не хватало даже для раненых, и было непонятно, где он раздобыл их столь большое число.
Наполеон въехал в Москву во вторник, 3 сентября, со стороны Дорогомиловской заставы. Его великая армия после сражения под Бородином насчитывала 100 тысяч человек при 607 орудиях, 2500 артиллерийских повозок, 5000 повозок с кладью и... боезапас на один день сражения.
Подъехав на коне к Боровицким воротам, французский император впервые воочию узрел внушительные стены Кремля и хмуро произнес: «Voila de terible murailles!» (Какие страшные высокие стены!)
Невольно он обратил внимание и на то, что из труб домов не поднималось ни единой струйки дыма. Большая часть из 300 тысяч жителей Москвы исчезли, и всюду разлилось молчание пустыни!
Затем Наполеону доложили, что губернатор Москвы Ростопчин собственноручно сжег свой дом, написав на железной двери церкви по-французски: «Я жил здесь с семьей счастливо... при вашем приближении я предаю огню свой дом, чтобы вы не осквернили его своим присутствием. Здесь повсюду вы найдете лишь пепел!»
Это было зловещее предупреждение.
Согласно свидетельству адъютанта Наполеона Сегюра император был хорошо осведомлен о строительстве «летучего корабля», поэтому почти сразу на дачу Репнина был послан генерал JIayep с приказом обследовать всю территорию вотчины. Он сообщил:
«Москва, 12 сентября.
Подробное описание разных вещей, найденных на даче Воронцова, близ Москвы, принадлежащих воздушному шару или адской машине... имевшей служить для истребления французской армии.
...Здесь была обнаружена лодка, которая подвешивалась к воздушному шару, но которая была сожжена до вступления наших войск в Москву. Эта лодка находилась в 100 шагах от дворца, имела 60 футов длины и 30 ширины, в ней находилось много остатков винтов, гаек, гвоздей, крючьев, пружин и множества прочих железных снарядов всякого рода. Большой деревянный щит в виде шара (возможно, шаблон для раскроя оболочки.— Л. В.)
В помещениях упомянутого строения найдено 180 бутылей купороса, сверх этого вокруг дома 70 бочек и 6 особых чанов (из них добывался водород для наполнения оболочки.— Л.В.)
В самом доме найдены столярные и слесарные мастерские и множество всевозможных инструментов и приспособлений. Примечательно также, что в маленьком белом доме (летнем павильоне.— Л.В.), стоящем неподалеку, найдено много разбросанного и растоптанного пороху.
Найдено сверх того человеческое тело, которое, как говорят, есть какого-то русского капитана, охранявшего мастерскую...»
Генерал, верховный судья армии, граф Лауер»
К этому времени в Москве начался пожар. Наполеон был уверен, что Москву подожгли по приказу Ростопчина. Генерал Лауер обшарил местность вокруг дачи Репнина и арестовал одного офицера, десять солдат- ополченцев, портного, чернорабочего — всего 26 человек.
После короткого военно-полевого суда, где их объявили «поджигателями», 16 человек были расстреляны. В бюллетенях великой армии (№ 21 и 22) сказано: «Пойманы 300 человек поджигателей. У них были ракеты, каждая в шесть дюймов, укрепленная между двумя кусками дерева. У них были также снаряды, которые они бросали на кровли домов. Этот презренный Ростопчин велел приготовить эти зажигательные средства, распустив слух, что строится воздушный шар, с которого польется огненный дождь на французские войска и истребит их...»
Наполеон, сидя в Кремле, с каждым часом ощущал, как раскаляется окружающий воздух и всюду расстилается горький дым. Он нервно ходил по комнатам Кремлевского дворца, заглядывал в зарешеченные окна и смотрел, как яростный огонь подбирается к самым стенам Кремля.
Вскоре, выйдя через подземный ход. он перебрался в Петровский дворец вблизи Ходынского поля и, убедившись, что император Александр не пойдет на перемирие, принял решение оставить пределы России, дабы не остаться навсегда в «огненной мышеловке».
Он пробыл в Москве лишь 34 дня, потеряв при этом в огне и стуже еще 30 тысяч солдат и офицеров. Что было дальше?
Переезд всего хозяйства Франца Леппиха по ухабистым дорогам России был мучительным. Оболочка «летучего корабля» от мороза растрескалась, порвалась во многих местах. Ощущая за спиной неусыпное недоброжелательное и зловещее око Аракчеева, он принялся за ремонт и строительство новой, более легкой лодки и рессор.
«Ораниенбаум, 6 ноября 1812 года.
Вашему императорскому величеству, по несчастью, должен донести, что общее мной замеченное сомнение в дельности и успешности моего изобретения и здесь служит мне во многом преградой...
Ваше императорское величество предлагает мне прилететь в С.-Петербург, но ненастная бурная погода и чрезвычайный холод, равно и недостаток разных нужных приготовлений во время наполнений баллона оному во вред послужили и я никак не осмеливаюсь дождаться приезда его сиятельства графа Аракчеева, потому, что чрез сие лишусь счастия поставить опыт перед лицом Вашего императорского величества. Кроме того, обнаружено мной три больших отверстия вследствие сильного ветра, действовавшего на баллон, который на 15—16-градусном морозе совершенно затвердел, а также из-за транспорта из Москвы до Нижнего Новгорода и оттуда в С.-Петербург весьма потерпел, так что во многих местах от проходящего чрез неприметные отверстия газа слышен запах.
Учитывая все сие, мне более ничего не остается, как, воспользовавшись первым благоприятным случаем совершенного заполнения балона, не теряя ни малейшею времени, прилететь в С.-Петербург, где я постараюсь опуститься в саду Таврического дворца.
Но ежели сей полет сделается невозможным, то я здесь, в Ораниенбауме, предприму такие движения, во все стороны, последствия которых засвидетельствуются всеми находящимися здесь в присутственных местах чиновными особами».
Между тем война шла к своему завершению. Даву потерпел поражение при Вязьме, Ней — под Красным. 14 ноября началась переправа французов через Березину, Наполеон, понимая, что война с Россией проиграна, бросил армию и устремился в Париж, где генерал Мале едва не совершил государственный переворот.
Леппих же, перебравшись в Ораниенбаум, организовал мастерскую и занялся спешным ремонтом оболочки, строительством новой гондолы, а также установки по добыванию водорода. Аракчеев вел учет каждой истраченной копейке, кроме того, приставил к Леппиху двух соглядатаев, которые аккуратно доносили ему о всех действиях инженера. Из документов известно, что Леппих модернизировал свой «летучий корабль», облегчил гондолу, заменил деревянные стойки на мягкую подвеску из пеньковых канатов, усовершенствовал рессоры.
Кроме того, удалось выяснить, что в течение 1813 года Леппих провел несколько подъемов «летучего корабля», модернизированного и усовершенствованного, однако неполадки в механизме рессор вновь роковым образом сказались на его дальнейшей судьбе. Аракчеев не стал дожидаться возвращения государя императора из-за границы и дабы показать, насколько он был прав, предсказывая провал, в сентябре 1813 года приказал генерал- майору Вындомскому провести экспертизу, подать ему рапорт, на всем предприятии Леппиха раз и навсегда поставить крест, а ему дать «полный абшид» (отставку).
Вындомский отлично понял, что от него требуется, и дал резко отрицательный отзыв «опытам Леппиха». Многоопытный царедворец Аракчеев затем составил особое «отношение» о передаче вопроса об «еростате» в артиллерийский комитет Военного министерства, который и утвердил выводы Вындомского.
Нетрудно догадаться, что Леппих, намеревался воспользоваться благосклонностью государя изготовить новую оболочку «летучего корабля» и довести дело до конца. Поэтому Аракчеев торопился собрать «компромат». Изобретателю было указано, что, помимо московских расходов, им было потрачено дополнительно 54 897 руб. 19 коп. и 300 золотых червонцев, после чего ему дали понять, что отныне он может отправляться на все четыре стороны.
В ноябре 1814 года, погрузив большие кожаные чемоданы, Франц Леппих сел в дорожную карету и через одну из Петербургских застав отправился в Европу, в герцогство Вюртемберг.
Река времени
Через 183 года после описываемых событий, весной 1994 года, я, не прерывая архивных поисков, несколько раз побывал на даче Репнина в Воронцове. Конечно, за столько времени здесь многое изменилось, тем не менее, к моей великой радости, неплохо сохранились сторожевые башни, кордегардия (караульные помещения), часть рощи, флигель, где жил Франц Леппих, и летний павильон с колоннами, где хранились (согласно французским актам) ракеты и фугасы.
К сожалению, сам дворец Репнина не уцелел. В 30-е годы его передали местному колхозу под правление, и вскоре он сгорел. Но мне повезло. Летний павильон реставрировался, он стоял в лесах, земля вокруг была изрыта. Войдя вовнутрь, я увидел следы пожара — изрядно закопченные кирпичные стены. Мое внимание привлекла груда шебня и валявшаяся на земле балка от потолочного перекрытия, обтесанная топором. На ней хорошо были видны следы пожара 1812 года!
Тщательно исследовав павильон, я убедился, что ополченцы, охранявшие дачу, постарались выполнить приказ Ростопчина и предали «секретный объект» огню. Это дало в руки генерала Лауэра неопровержимые доказательства «умышленного поджога». После чего 16 человек и были расстреляны...
В земле на глубине примерно одного метра я обнаружил ржавые гвозди, детали подъемной машины с храповиком, истлевшие куски дерева, однако никаких следов пороха или деталей ракет найти не удалось. Правда, меня не покидала уверенность, что если здесь провести раскопки по всем правилам археологической науки, тщательно просеять отвалы земли из павильона, то можно было бы найти немало интересного.
Отсняв две катушки пленки, я еще долго бродил около флигеля и павильона, сделал кроки, попытался определить место, откуда Леппих хотел отправиться в полет к ставке Кутузова.
Мысли мои невольно возвращались к Леппиху и его «летучему кораблю». Мне так и не удалось найти изображение этого человека, как не удалось выяснить и его дальнейшую судьбу. Его имя надолго потонуло в реке времени, но, несомненно, в Штутгарте, возможно, отыщутся документы, проливающие свет на новые факты из жизни инженера, который, подобно жюль-верновскому Робуру Завоевателю, намеревался повернуть ход истории.
ЖЮЛЬ ВЕРН СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ
Научный прогресс нужен человечеству лишь в том случае, если идет в ногу с прогрессом нравственным...
Ж. Верн
«С Земли на Луну»
2 апреля 1877 года сорокадевятилетний писатель Жюль Верн в очередной раз давал для детей города Амьена костюмированный бал. Было разослано 500 приглашений. Несмотря на помощь родителей, хлопот и волнений было предостаточно. В последний момент жене фантаста Онорине силы изменили: поднялась температура, и она слегла в постель, однако попросила мужа не отменять праздника, не лишать детей радости.
В этот необыкновенный весенний день в доме № 1 на улице Дюбуа царило великое оживление. Весь особняк писателя (кроме его кабинета) был предоставлен в распоряжение детворы. Камерный оркестр из местных любителей-музыкантов играл веселую музыку Моцарта, Штрауса, Оффенбаха.
Гвоздем вечера было фантастическое представление «С Земли на Луну», разыгранное по сценарию писателя и повторявшее сюжет его романа. Посреди обширной гостиной стоял точный макет снаряда, которым выстрелила гигантская пушка «Колумбиада». Вокруг снаряда расположились сгоравшие от нетерпения дети.
Вдруг в верхней части открылся люк и по приставной лестнице один за другим начали спускаться живые, улыбающиеся герои полета к Луне: Импи Барбикен, капитан Николь и Мишель Ардан. Последний был самым настоящим «астронавтом», ибо изображал... самого себя!
(В романе писатель его прозрачно «зашифровал», превратив из Надара в Ардана.) На нем был тот самый костюм из коричневого бархата, описанный писателем, и кожаные краги. Дети сразу обступили их. Путешественники шутливо, со всеми подробностями принялись рассказывать перипетии полета вокруг Луны.
Сам Жюль Верн принял живейшее участие в этом представлении. Сидя в кресле в своей характерной псзе, закинув ногу за ногу, он посмеивался, задавал каверзные вопросы, слушая реплики «капитана Николя», уточнял цифры.
Председатель «Пушечного клуба» Барбикен (его изображал местный учитель), выразительно жестикулируя, как заправский профессор рассказывал жадно слушавшим ребятам о космическом полете. Он объяснил, почему скорость полета снаряда к Луне должна быть 12000 ярдов в секунду (11 182 м/с). При этой начальной скорости снаряд, в котором они находились, должен был долететь до нейтральной зоны, где «притяжение Земли равно притяжению Луны». Место это, как они полагают, находится на 4/s расстояния от Земли до Луны. В этой точке они испытали приятную невесомость, сильно их позабавившую.
Географическая точка или район, из которого они отправились в космическое путешествие, был выбран в штате Флорида, на горе Стонсгвиль. Ее координы 27°7' северной широты и 5°7' западной долготы. Длина вертикально установленной пушки равнялась 274 м при диаметре 2,743 м. Для выстрела был использован пироксилин в количестве 163 800 кг, который при взрыве-горении выделил 6 миллиардов литров газа.
Снаряд-капсула, в которой находились люди, имел конусообразную форму диаметром 2,743 м при высоте 3,658 м. Внутренняя площадь равнялась 54 кв. фута. Снаряд был изготовлен из алюминия и весил около 8000 кг, имел два иллюминатора (в другом романе, «Вокруг Луны», иллюминаторов стало четыре).
Провизии на борту должно было хватить на месяц. В связи с этим Ж. Верн высказал идею: посылать с Земли контейнеры-снаряды, которые можно будет «улавливать» на орбите или причаливать к ним.
Жюль Верн предполагал, что орбита капсулы-снаряда может значительно измениться под влиянием пролетающего мимо астероида, и ввел в роман захватывающий эпизод: когда его герои пролетают над обратной стороной Луны, они встречают загадочное космическое тело в виде светящегося шара, весьма сходное по описанию с НЛО. Такие загадочные летящие объекты действительно наблюдают астрономы над лунной поверхностью. Жюль Верн знал об этом из сообщений астрономических журналов.
Странные объекты над лунной поверхностью, которые видны в виде кочующих светящихся точек, продолжают наблюдать в сильные телескопы и в наше время. Уже в XIX веке ученые без особого труда вычислили размеры и среднюю скорость этих объектов. Но всех, и ученых, и писателя, ставило в тупик одно обстоятельство: «Каким образом светящиеся объекты ухитряются летать в небе Луны, если там совершенно отсутствует атмосфера?» При этом зарегистрированная скорость их полета колебалась от 0 дс 100 и более км/с.
Особенно часто летящие объекты наблюдали над Морем Спокойствия. И действительно, американские астронавты обнаружили оплавленные участки лунной поверхности с большим количеством микроскопических стекловидных шариков, почти аналогичных тем, которые обнаружил профессор Кулик в районе падения Тунгусского метеорита.
В наши дни «Хронологический каталог НАСА» с беспристрастностью научного документа сообщает, что астрономы наблюдали движущиеся светящиеся объекты южнее кратера Росс. За 8 лет их видели не менее четырех раз. (Технический рапорт R-277, 1968 г.)
В дневное и ночное лунное время астрономы зафиксировали (примерно за сто лет) более 1000 случаев появления этих странных объектов. Наблюдали их и во время лунных затмений. Ж. Верн, конечно, не мог пройти мимо такого сверхзагадочного факта и рассказал о нем в романе «Вокруг Луны». Вот что увидели путешественники: «Внезапно в глубочайшем мраке, окружающем их, появилась какая-то огромная масса... сверкающая так ярко и нестерпимо, что ее свет резко пронизывал глубокий мрак неба. Эта масса шарообразной формы излучала такое сильное сияние, что снаряд был затоплен ее светом. Лица Барбикена, Николя и Мишеля Ардана, резко освещенные потоками этого ослепительно белого света, казались белесыми, безжизненными, призрачными... Шар приближался со скоростью двух километров, в секунду или тридцати лье в минуту. Он летел наперерез снаряду и через несколько минут должен был неминуемо с ним столкнуться...»
Как известно, героям Ж. Верна почти чудом удалось избежать гибели, но фантаст не рискнул отнести объект к внеземной цивилизации. В конце рассказа путешественники сообщили, что, обогнув Луну, они достигли Земли 12 декабря в 1 час утра, пробыв в космическом пространстве 10 суток, 2 часа, 13 минут и 20 секунд. Приводнение произошло в океане, где они были подобраны американским корветом.
Немаловажным обстоятельством было то, что Ж. Верн писал свой научно-фантастический роман, опираясь на точнейшие математические расчеты. Он смоделировал и тщательно продумал этот небывалый орбитальный полет вокруг Луны, после чего дал проверить свои расчеты профессиональному математику Анри Гарсе.
Внимательно прочтя рукопись, Анри Гарсе с удивлением вынужден был признать, что по своему научному значению и уникальной информации роман фантаста можно смело приравнять к научному трактату или диссертации, правда, и он, и Жюль Верн просмотрели в романе ошибку относительно силы гравитации. Ее заметили много позднее, уже в наше время, известный русский популяризатор науки Я.И. Перельман в книге «Межпланетные путешествия» и немецкий писатель Макс Вальтер. Они проанализировали проект Ж. Верна с разных точек зрения и доказали, что невесомость на орбите в космическом корабле наступает сразу, как только перестает действовать ускорение, а не тогда, когда силы притяжения Земли и Луны уравновесятся.
Во всем остальном писатель был сверхточен. После космического полета коробля «Аполлон-9» американский астронавт Фрэнк Борман выступил в печати и указал на поразительные совпадения, а вернее, на научные предвидения Жюля Верна.
Так, великий фантаст совершенно точно указал пункт запуска космического корабля (снаряда «Колумбиады») в штате Флорида довольно близко от мыса Канаверал, а также точку посадки астронавтов в Тихом океане с ошибкой всего в 2,5 мили.
Параметры траектории полета к Луне удивительным образом соответствовали полетам «Аполлонов». Снаряд, описанный в романе, изготовленный из алюминия, по многим характеристикам совпал с посадочным модулем ч<Аполлона». Писатель предусмотрел реактивное торможение при входе в атмосферу Земли и многое другое, что может показаться просто невероятным!
Любопытно, что Жюль Верн описал огромный телескоп в Скалистых горах США, с диаметром линз 16 футов (4,8768 м), при помощи которого ученые на Земле следили за этапами полета к Луне. Й действительно, позднее на средства американского миллионера такой телескоп был построен на горе Маунт Паломар с диаметром линз, лишь на 13 мм отличающимся от того, который описал Ж. Верн в своем романе.
Даже Крабовидная туманность, как остаток сверхновой звезды, привлекла внимание писателя, и он предсказал, что она станет чрезвычайно интересным объектом для изучения, который обогатит науку новыми открытиями. (Вспышку этой сверхновой в 1450 году наблюдал астроном Тихо де Браге.)
Но не менее удивительна была способность фантаста видеть описываемое событие вплоть до деталей. Позволю себе напомнить читателю то место из романа «С Земли на Луну», где описывается первый полет человека в космос.
«Наступило 1 декабря, роковой день, в который должен произойти выстрел колумбиады... Погода была великолепная... солнце ярко блестело, заливая волнами света и тепла ту самую Землю, которую трое ее сынов собирались покинуть...
Многим дурно спалось накануне этого долгожданного дня... Только Мишель Ардан (как и первый космонавт Юрий Гагарин.— Л.В.) составил исключение. Этот удивительный человек был такой же, как всёща, живой и деятельный, такой же веселый и беспечный, не обнаруживая ни тени тревоги или озабоченности. Сон его в ту ночь был крепок и безмятежен».
Далее фантаст как бы мимоходом замечает, что то место, откуда люди отправились впервые в космическое путешествие, «положило начало городу, который впоследствии получил название Арданс-Таун». Как известно, в СССР таким местом стал новый «космический» город Байконур, а в США, во Флориде, город Хьюстон. Видимо, Жюль Верн отлично понимал, что подготовка к запуску потребует огромных научных и экономических затрат целой нации.
Читаем далее:
«До выстрела оставалось еще сорок секунд. Каждая из них казалась столетием... «Тридцать пять! Тридцать шесть! Тридцать семь! Тридцать восемь! Тридцать девять! Сорок! Пли!!!» (в этот момент Юрий Гагарин сказал: «Поехали!»)
Мерчисон (в реальном событии в 1961 году, 12 апреля, его место занимал С. П. Королев.— Л.В.) нажал кнопку выключателя, замкнул ток и метнул электрическую искру в глубину колумбиады. (Сейчас это сопровождается командами: «Ключ на старт», «Пуск!» — Л. В.)
Раздался ужасный, неслыханный, невероятный взрыв! Невозможно передать его силу,— он покрыл самый оглушительный гром и даже грохот извержения вулкана... взвился гигантский сноп огня, точно из кратера вулкана. Земля содрогнулась...»
Нам, живущим в XX веке и ставшим свидетелями полета в Космос Юрия Гагарина, трудно отделаться от мысли, что Жюль Верн описал ЕГО ПОЛЕТ. Такова сила воображения великого фантаста!
Лев Толстой в середине 70-х годов прошлого столетия каждый вечер читал своим детям одну-две главы из нового романа Жюля Верна и даже сам иллюстрировал роман по их просьбе. (Сохранилось 17 таких рисунков.) Особенно его привлекла невесомость. В 1897 году в письме к А.А. Фету он, увлекшись именно этим явлением, характерным для космических полетов сегодняшнего дня, писал: «У Ж. Верна есть рассказ «Вокруг Луны». Они там находятся в точке, где нет притяжения...»
Другой наш соотечественник, И.С. Тургенев, часто встречался с Ж. Верном в Париже и поддерживал с ним приятельские отношения. Он всегда восхищался фантастическими романами Ж. Верна, а мастерство фабулы даже ставил выше, чем у Достоевского.
Еще при жизни Жюль Верн стал самым любимым и самым читаемым писателем, которым особенно увлекалась молодежь. Читатели во многих странах с нетерпением ждали выхода очередного романа фантаста.
Известно, что по примеру французских детей во всех крупных городах России в гимназиях и сельских школах ставили с великим увлечением пьесы по романам «Вокруг Луны», «20 тысяч лье под водой», «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта» и, конечно, «Михаил Строгов». Популярность Жюля Верна была необычайной. Этому способствовали прекрасные переводы, сделанные украинской писательницей Марко Вовчок (1833—1907). Едва первые экземпляры романа, выпущенные французским издателем Пьером Ж. Этцелем, появлялись в продаже в Париже — начиналась работа над переводом и через 2—3 месяца коробейники уже развозили роман по городам и весям России, где он мгновенно раскупался. Особенно много потрудился на ниве издания в России Жюля Верна знаменитый И.Д. Сытин.
Жюль Верн подружился с Марко Вовчок, которая перевела около 20 его произведений. Присланные ему авторские экземпляры книг на русском языке (кстати, прекрасно изданных) он ставил на отдельную полку и любил показывать гостям.
Жюль Верн смог предвидеть многое в авиации («Робур Завоеватель»), в воздухоплавании, в морском деле, полетах в космос и даже в грядущем отдельных государств...
Свежие комментарии