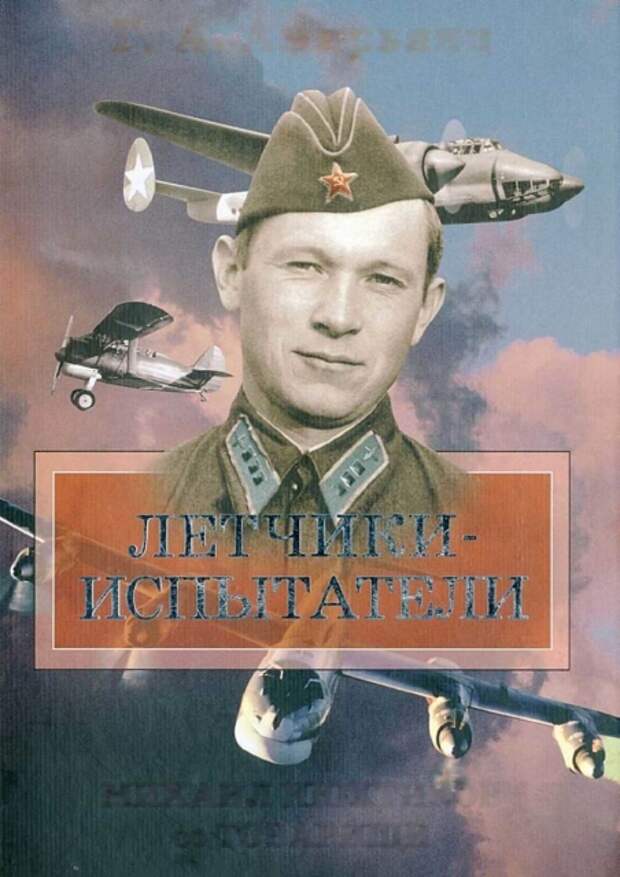
Хороший штурман не имеет цены в экипаже. Малхасян был особенно ценен тем еще, что воспитал, не прикладывая к тому, казалось, особых усилий, достойную смену...
Малхасяну довелось участвовать в трех войнах. В первой, в Китае, один из его боевых вылетов на самолете ТБ-3, попавшем в критическое положение, закончился чудесным спасением экипажа.
Отечественную войну старший лейтенант Малхасян начал в особом полку дальних бомбардировщиков, главной задачей которого была, в частности, разведка. Однажды мотор его самолета отказал, и при вынужденной посадке самолет, особенно его носовая часть и кабина, получил серьезные повреждения. Экипаж спасло давнее и серьезное увлечение Малхасяна. (Еще мальчишкой он загорелся радиолюбительством. Позывные его коротковолнового передатчика знали многие радиолюбители мира, и популярный девиз «авиарадио» привел юношу в школу штурманов.) Так вот, пять суток в тридцатиградусный мороз, без еды экипаж не имел связи с внешним миром, пока Малхасяну не удалось починить радиостанцию.
Малхасян летал штурманом в экипаже маршала А. Е. Голованова, которому доверяли перелеты самых важных «пассажиров»: маршалов Жукова, Василевского, Рокоссовского, маршала Югославии И. Б. Тито, правительственной делегации во главе с И. В. Сталиным на Тегеранскую конференцию 1943 года...
В 1944 году майор Малхасян был уже флаг-штурманом командующего дальней авиации главного маршала авиации Голованова.
После окончания войны в течение 19 лет Малхасян работал в ОКБ Туполева. При его прямом участии были созданы и испытаны около двух десятков опытных самолетов. Сего участием было установлено 25 мировых авиационных рекордов. В 1959 году Малхасян был штурманом экипажа самолета Ту-114, который совершил уже упоминавшиеся три первых беспосадочных перелета с советскими правительственными делегациями — в Нью-Йорк, Вашингтон и Пекин.
«В штурманском деле, — вспоминал Майоров, — я многое перенял у Константина Малхасяна. Он же был у нас флаг-штурманом. Я был вторым штурманом. Оба возили важные делегации в Америку на Ту-114...»
Малхасян был награжден 10 боевыми орденами и 20 медалями, был представлен А. Н. Туполевым к званию Героя Советского Союза за испытания и внедрение в боевые части ракетного сверхзвукового комплекса Ту-128, но почему-то не был удостоен этого звания... Говорят, в то время считалось, что Героем может быть только летчик. Малхасяну дали тогда боевой орден Красного Знамени в дополнение к его военным наградам. Несправедливо, обидно, но, может быть, дороже званий доброе воспоминание о человеке.
Я как-то спросил у А. П. Якимова: «А кто же у вас самые-самые сильные штурманы? Самые толковые, спокойные, хладнокровные, умелые? Или летчик сам должен быть хорошим штурманом?»
— Ну, так это всегда так было. И должно быть! С ходу и не скажешь, кто самый-самый. Был у нас старшим штурманом Михаил Андреевич Жила — бывший военный штурман. Суетливый такой, шумливый человек, но как штурман — выдержанный, толковый, знал свое дело...
Сикачев — отличный штурман. Силенко — слабоватый. Не проявлял высокомерия или еще чего-то недоброго. Паспортников — это отменный штурман. Спокойный, грамотный. Штурман всех статей! Гаврилен- ко. Он погиб с Алашеевым. Хороший штурман.
Костя Малхасян — штурман, с которым мы летали в Америку. Этот — тихий, как говорят, спокойный, в драки не влазил. Чуть ли не маршал Голованов оказал ему содействие. Как-то Голованов в разговоре со мной спросил: «Ну, как там мой посланец?» Дело свое Костя Малхасян знал. На Ту-114 я сделал с ним первый вылет в 1957 году, и два года (два года!) мы доводили машину. Экипаж слаженный, толковый. И технический состав, и инженерный. Два года — прежде чем вышли в свет, с Хрущевым. Работа длительная...»
Шеф-пилот ОКБ Туполева Э. В. Елян говорил о штурмане Малхася- не: «Очень порядочный человек, красивый, заслуженный. Мыс ним много летали, он настоящий профессионал. Но однажды я ему сказал, что больше с ним летать не буду! Шел я к такому решению давно. В Борисоглебском училище было четыре армянина: мой командир звена, я, техник самолета и курсант. Однажды после выполнения регламентных работ надо было облетать Як-18. Механик упросил меня взять его с собой в полет. При заходе на посадку не выпустилась правая стойка шасси. 40 минут, бросая самолет из одного положения в другое, боролся я с этой стойкой. Наконец на одной из перегрузок стойка встала на свое место. На земле экипаж ждали уже “боевые листки”: карикатурный Як-18 с двумя усатыми армянами.
Второй случай произошел в училище на взлете самолета УЛа-9. В передней кабине находился курсант А. Тарасян. В середине разбега лопнул трос управления рулем направления. Прекращать взлет означало поломать самолет, и тогда я дал команду курсанту: “Брось ручку и круги рукоятку управления триммером руля вправо!” Она находилась в передней кабине на правом горизонтальном пульте. Тарасян, молодец, не растерялся и выкрутил рукоятку до упора. После благополучного взлета, “блинчиком” выполнили заход на посадку. После полета выяснилось, что накануне на самолете поменяли тросовую проводку управления рулем направления и переусердствовали с ее натяжением.
Третий случай произошел уже в КБ Туполева. Однажды, уходя в отпуск, Алексей Петрович Якимов поручил мне выполнить испытания самолета Ту-104Е. Он обратил особое внимание на то, что надо быть предельно осторожным: самолет имел дополнительные баки, позволявшие значительно увеличить дальность его полета; главное же — возможны были сложности управления, связанные с перекомпенсацией элеронов.
Вторым пилотом у меня был молодой летчик-испытатель Толя Липко, а штурманом — Костя Малхасян (он сидел внизу, впереди нас). Взлетели, убрали шасси, убрали закрылки. По мере увеличения скорости я, помня предупреждение Петровича, все время следил за усилиями на штурвале. На скорости около 400 км/ч я почувствовал, что даже с помощью Толи справиться с возросшими усилиями невозможно. Затормозившись, я сказал, что будем разворачиваться и садиться. Снизил скорость до 380 км/ч, выпустил закрылочки немного, а Толя спрашивает: “Можно я поуправляю?” Я с Толей не летал особо, он только перешел к нам от Мясищева, добросердечный парень, но как летчик мне незнакомый. Я говорю ему, отдавая управление: “Только поосторожнее!” Отдаю и вижу, что снизу Костя подает мне какие-то знаки. Я пытаюсь понять, что означают его жесты. И в это время вижу, что земля пошла “кувырком”. Машина вдруг встала под углом градусов 90, носом вниз. Толя — совершенно бледный, белый даже, скорость возросла уже до 420 км/ч! Машину потянуло вниз, а высота и без того была не более 400 м. Я тут же дал левую ногу и кричу: “Ногу!” Мы вдвоем, давя на левую педаль, смогли “вытащить” машину на высоте около 100 м, развернулись, приходим обратно, сели. Малхасян, оказывается, предчувствовал, что Толя мог грубо ошибиться, и сказал мне укоризненно: “Ты виноват в том, что не подстраховал Липко. Я тебе показывал жестом, зачем, мол, отдал управление...” После этого я сказал Константину Ивановичу, что больше летать с армянами не буду...»
Как штурман Малхасян работал безукоризненно, это был профессионал высокого класса — неслучайно он всю войну пролетал в экипаже маршала Голованова. Он был самобытен во многом. В застолье не позволял себе лишнего и был убежден, что знает секрет долголетия: один лимон вдень — вместе со шкуркой...
Для командира экипажа тяжелой машины хороший штурман — это все! Помимо Малхасяна Елян особо вспоминал штурмана Николая Ивановича Толмачева. С ним он выполнил большую и ответственную программу испытаний самолета Ту-22К с ракетой Х-22 и новым навигационным комплексом. Толмачева Елян выделял еще как «земляка»: они учились в одном — Борисоглебском училище. Коля хотел стать летчиком, но не получилось почему-то, и он закончил училище штурманом.
Летчик-испытатель Василий Петрович Борисов, которого особо выделял всегда Нюхтиков, не был согласен с распространенной точкой зрения о том, что в КБ Туполева не было хороших штурманов. Первым он вспомнил в связи с этим как раз Константина Ивановича Малхасяна, с которым летал на Ту-28 и на Ху-114: «Он был в нашем экипаже как папа. Хотя разница в возрасте у нас была не очень большая — он с 1916 года, а я — с 29-го. Толковый, надежный, рассудительный специалист». Другим, весьма сильным штурманом среди «стариков» был М. А. Жила. «Старики», как правило, не имели особого образования. Жила, к примеру, был прежде стрелком. «Лежал у турели, у левой стойки шасси на ТБ-3, — говорил о нем Борисов. — Потом стал штурманом, и неплохим, я с ним
летал на “110-й” и “28-й“...» Владимир Степанович Паспортников при Борисове уже летал очень мало — появились проблемы со зрением.
Особенно высокого мнения Василий Петрович был о вновь пришедших штурманах: «Они, например, Лева Сикачев, были пошустрее, пограмотнее “стариков”. Очень сильным (наверное, самым сильным среди молодых) был А. Шевцов. Он погиб с Кульчицким на Ту-95...» Шевцов летал с Борисовым на «45-й», а когда Василий Петрович ушел в отпуск, стал летать на «95-й» — для налета, да и для заработка. Вернувшись из отпуска, Борисов пожурил Шевцова:
«Что тебе сдалась эта бетоночерпалка -“95-я”? Тебя ждут сверхзвуковые “45-я” и “144-я” — с более короткими, но острыми полетами...» Самого высокого мнения Борисов был о штурмане В. А. Трошине, пришедшем в КБ Туполева из «Аэрофлота», столь же уважительно он говорил также о В. И. Пе- досе. Словом, хорошими, толковыми штурманами туполевцы, по убеждению Борисова, не были обделены.
А вот взгляд «со стороны». М. В. Ульянов говорил: «Какие штурманы на памяти? Михаил Андреевич Жила. Это был шумный, горластый человек, но вместе с тем очень домашний. Он был умелец в своих делах... Андрей Макарович Силен ко. Его привел с собой Нюхтиков из ГК НИИ ВВС. Тоже — штурман из предыдущего поколения, полковник. Все знал, все умел и... ничего не хотел. Константин Иванович Малхасян, конечно. Лев Степанович Сикачев — это штурман закалки военно-воздушной, педант, работал исключительно точно, цепко. Одно слово — мастер. Когда мы с Борисовым и с ним попали в пыльную бурю в Хартуме на Ту-154, один заход мы сделали и не попали. За штурвалом сидел шеф-пилот “Эджип Эйр”, какой-то генералиссимус авиационный. Вася Борисов его прогнал и говорит: “Лева, давай!” Там был один привод и тот стоял в стороне от полосы. И вот благодаря Леве со второй попытки мы вышли достаточно точно. А видимости не было никакой! Потом он работал очень много лет на “45-х” машинах. Все эти комплексы — навигационные, вооруженческие — все это было сикачевское! Он работал на всем и летал на всем — надежно, без ошибок. Ему не было и 60 лет, он прошел комиссии и продолжал летать, когда однажды в погожий летний день, возвращаясь пешком с работы домой, упал и умер... Сильный штурман — Александр Николаевич Николаев, он многое сделал для создания и отработки навигационного комплекса самолета
Ту-204. В составе экипажа Павлова аварийно покидал Ту-160... Николай Иванович Толмачев — известный штурман. В последнее время появился Педос Виктор Иванович. Очень хороший штурман. Он очень многое сделал на “45-й”, на Ту-160. Он хорошо знает язык, и преуспел на всяких заграничных полетах. Работал четко. Но как человек — с особенностями. Почему-то он решил, что ему обязательно надо быть Героем. Последние четыре года все представления базы начинаются с Педоса... Молодые штурманы: Еременко, Кудрявцев — хорошие, надежные штурманы, но пока ничем не отличившиеся...»
Былые парады и последние полеты
Годы плотного общения с Михаилом Александровичем позволяют мне уверенно говорить об одном: его характеристику и его суждения передаю достаточно точно. Главное в Нюхтикове состояло в том, что и в глубокой старости он оставался прежде всего летчиком. Никакая тема разговора (хотя он был всеяден) не зажигала его так, как авиация. Он продолжал летать мысленно. И особенно памятны ему были полеты на парадах и полеты самые последние...
Сложилось так, что Михаил Александрович довольно много участвовал во всякого рода демонстрационных полетах. Немного об этом уже говорилось. Как говорилось об участии других летчиков в этих парадах и об их оценках наиболее значимых событий. И здесь особо интересны воспоминания старого летчика. Далеко не всегда его взгляды и оценки совпадают с общепринятыми. Тем они и важны для нас. Как были важны, когда мы рассматривали и другие вопросы, не останавливаясь перед очевидной опасностью повториться, рассматривая с разных позиций одни и те же события.
Впервые над Красной площадью Нюхтиков пролетел в 1934 году — на ТБ-1. Воздушный парад продолжался много часов. Собственно пролет над площадью многочисленных самолетов, вытянувшихся в длинную цепь, протекал не менее одного часа, а остальное, подготовительное, время в воздухе — 4-5 часов — затрачивалось на то, чтобы всю эту армаду выстроить и вывести на заданный маршрут. Парад этот был памятным тем, что собрали тогда всех участников в Монине и лишили какой бы то ни бьшо связи с внешним миром. У Михаила Александровича в то время умер отец. Но письмо с печальным сообщением он смог прочесть только после того, как парад прошел. Лидером на этом параде, как раз на ТБ-1, был будущий генерал Алексеев (в прошлом — начальник летной школы), и вот тогда-то впервые Нюхтиков окунулся в атмосферу многочасового парада: «Убавь скорость, прибавь!..»
Через год, в 35-м, он летал уже, демонстрируя авиационную мощь страны, на СБ. В тот год традиционный банкет в Кремле для летчиков — участников парада был организован с особым размахом. Присутствовали знаменитые деятели искусств, литературы, и по всем залам прошли с поздравлениями члены Политбюро. Впервые увиденный маленький, незаметный И. В. Сталин, никем особо еще не выделяемый, шел рядом с
Н. И. Бухариным. В центре внимания наряду с ним были Г. К. Орджоникидзе, а также Георгий Димитров. После этого Нюхтиков летал на парадах и на ТБ-3, и на СБ, и на ВИТ-2, и на ТБ-7.
На первомайском параде 1939 года Нюхтиков демонстрировал ТБ-7. Это был отличный и имевший нелегкую судьбу самолет, созданный к тому времени группой Петлякова в КБ Туполева. Впереди шла пятерка истребителей И-16, возглавляемая А. К. Серовым, а за ТБ-7 (будущим Пе-8) шла столь же знаменитая впоследствии «сотка»
(Пе-2), созданная тем же коллективом, но в новом, тюремном, качестве — в составе ЦКБ-29 НКВД. Пилотировал «сотку»
П. М. Стефановский, и есть свидетельства очевидцев, что этот полет своих машин на параде 1939 года наблюдали из «обезьянника» — с плоской крыши здания КОСОС ЦАГИ, обнесенной по периметру высокой металлической сеткой, — Петляков и другие заключенные.
В том же году Нюхтиков участвовал в демонстрационных полетах на ДБ-3. Последний парад перед войной был у Нюх- тикова в 1940 году. Тогда он демонстрировал ближний бомбардировщик Яковлева, самолет типа «Москито» — ББ-22. Этот уже упоминавшийся самолет, имевший в первоначальном варианте как основное достоинство очень высокую скорость, 570 км/ч, был построен довольно большой партией, но, по убеждению Нюхтикова, и не его одного, многое потерял, прежде всего скорость, когда на самолет вскоре поставили вооружение, в частности, подвесили бомбы.
Участие в парадах нередко было сопряжено с необходимостью выполнения непродуманных, даже опасных иногда команд, хотя исходили они и от профессионалов. Однажды в 1948 году парадом в Тушине руководил, будучи командующим ВВС Московского округа, Василий Сталин. Нюхтиков должен был лететь на оригинальной трехдвигательной реактивной машине А. Н. Туполева «73». Его товарищ Ф. Ф. Опадчий летел на другой подобной же машине. В параде принимали также участие реактивные истребители.
О взгляде Федора Федоровича на события того парада мы уже говорили. А вот что вспоминал Нюхтиков: «Перед началом подготовки к параду В. И. Сталин собрал нас и прочел приказ: пролетать на высоте 200 м — бомбардировщикам на скорости что-то около 800, а истребителям — 850 км/ч. Тут все зашумели, загалдели. Всякого рода показы над большим скоплением народа — и до войны, на винтовых, проверенных машинах — мы делали с опаской. А тут — первые, нередко опытные, не-
облетанные реактивные машины, с потенциальной опасностью флаттера, на высоте 200 метров?!. В. И. Сталин послушал, послушал наш шум — и уехал, ничего не сказав. На следующий день он нас собрал вновь и говорит: “Товарищ Сталин сказал: «Уж если показывать, так показывать!»” В ответ на чей-то нервный смех еле сдерживавшийся, издерганный В. И. Сталин твердо заявил: “Ну, я свой приказ не отменяю”. После этого собрались мы кучкой, я и говорю: “Ребята, давайте на тренировке пойдем со снижением, с разгоном — выжмем сколько можем, а на параде будем держать на 20—30 километров меньшую скорость, чтоб чего-ни- будь не случилось, мало ли, болтанка или что еще непредвиденное”. О не- отмененном приказе старались не вспоминать...»
Оценку Василию Сталину Михаил Александрович и годы спустя давал нелицеприятную. Ругать сына вождя давно уже стало нормой. Но многие, знавшие его близко, как уже говорилось, с этим никак не согласны. Э. В. Елян рассказывал: «Я познакомился с Васей Сталиным в период, неприятный для него. Познакомились мы в госпитале Вишневского, где лежал Амет- хан Султан. Там просто познакомились, а встречались уже в Казани. Он жил в доме летчиков, под Борисом Машковцевым, и рядом жил Анвар Каримов, друг его по училищу. Мы выезжали вместе на пикники.
Вместе были на похоронах Анвара Каримова — он погиб там с экипажем на заправке, на Ту-16, ночью. Анвар был заводским лет- чиком-испытателем, чем-то очень напоминал Амет-хана.
Как-то на пикнике мы все были с женами. Ничего дурного о Васе сказать не могу.
Он в компании был очень порядочным, спокойным, остроумным, знал массу всяких анекдотов, смешных и к месту. У нас было все: и шашлык, и выпивка. Он вел себя очень спокойно, достойно...»
К словам Эдуарда Вагановича добавлю: «Мне довелось хорошо знать адъютанта Василия Иосифовича, полковника Михаила Степаняна, довелось разговаривать с фронтовыми друзьями летчика Василия Сталина, из которых следовало, что никак нельзя писать портрет этого незаурядного, умного человека одной черной краской. Я как-то сказал об этом Михаилу Александровичу, но он был непримирим: «Про Василия рассказывали, что он дурашливый, много пил, матерился, все начальники перед ним заискивали, берегли его, вознесли до поста командующего авиацией Московского военного округа. Он командовал парадом. И командовал не то чтобы плохо, а трусливо как-то. И ничего в этом удиви
тельного — человека растили искусственно. Может быть, он и был когда-то неплохим парнем...»
Трудно сказать, имел ли В. И. Сталин какое-либо отношение к этому новшеству, но на этот раз вопреки традиции и логике решили почему-то, что сначала пройдут бомбардировщики, а потом, вслед за ними, более быстроходные машины — истребители Яковлева и Микояна. Впереди шел Нюхтиков, за ним на дистанции в 1 км — Опадчий и далее — истребители. Нюхтиков не торопился снижаться на заданную высоту, с тем чтобы идти со снижением и разгоном до требуемой скорости над тушинским полем. А Опадчий снизился заранее, и это в какой-то степени было неоправданно. Шедший за ним на Яке-23 полковник Иванов не заметил этого и, упустив из виду Опадчего, решил, видимо, что Опадчий ушел слишком вперед и стал догонять... Нюхтикова. В результате самолет Як-23 врезался в хвост бомбардировщика Опадчего, сам потерял управляемость, резко, с разворотом пошел к земле и взорвался. Нюхтиков в воздухе ничего этого, естественно, не наблюдал. Сев на аэродроме в ЛИИ, он увидел жутковатую картину: «Смотрим, Опадчий “выписывает большие круги” на подходе к аэродрому и никак не может попасть на него из-за сильного рысканья. Подбегаем к нему после его посадки и видим — от руля поворота остались одни клочья. На левой половине стабилизатора — глубокая вмятина...»
Потом всех участников парада собрал главный маршал авиации К. А. Вершинин, и им показали киносъемку. Было видно, как пролетел Нюхтиков, как потом показался самолет Опадчего, как на него сверху точно в хвост зашел и ударил крылом Як-23...
В связи с этой трагической историей Михаил Александрович вспоминал другую, также чуть не кончившуюся катастрофой, мы о ней уже упоминали. Случилось это на параде в Тушине при огромном скоплении людей, и, может бьгть, впервые Нюхтиков, так уж получилось в этот год, оказался там со своей семьей лишь в качестве зрителя. На этот раз на самолете «82» летел летчик-испытатель А. Д. Перелет, который выполнил на нем и первые испытательные полеты. Михаил Александрович рассказывал: «Вдруг я вижу: подходит этот самый “82-й” и потом неожиданно тихо стал уходить с набором высоты. Никакого шума от двигателей. Рядом все спокойны, а я чувствую — нет, тут что-то не то! И действительно. Оказывается, разогнался он до скорости, больше той, которая прежде была проверена. Машину сильно затрясло — начался флаттер! Летчик сразу убрал газ и — пошел вверх. Это единственное спасение в такой ситуации — резко тормозить. Прилетел он, сел, машина оказалась искореженной. Туполев, как мне виделось, сильно перепугался, и работы по машине прекратились. А жаль — лишились хорошей машины...»
Наиболее памятным для Нюхтикова был его последний пролет над Красной площадью. Возможно, это был последний официально разрешенный полет над этой площадью вообще — с тех пор и на многие уже будущие времена (пока они не возобновились полвека спустя пролетом
пилотажных групп Су-27 и МиГ-29). Во всяком случае, это был единственный в своем роде полет. Когда-то в самом начале 30-х над Красной площадью, в непосредственной близости от соборов и башен Кремля показывали даже высший пилотаж и устраивали воздушные бои на истребителях И-5 А. Ф. Анисимов и А. Б. Юмашев. Инициатором этих показательных выступлений, как помнилось Нюхтикову, был Я. И. Алкс- нис. Яков Иванович сам провел пятерку истребителей над площадью — поперек нее и навстречу зрителям на трибунах, прежде чем двойка начала «бой», в процессе которого самолеты опускались очень низко.
Но огромному самолету Нюхтикова предстояло выполнить нечто, по замыслу организаторов, еще более впечатляющее. Происходило это при подготовке к первомайскому параду 1956 года. Уж неизвестно, у кого из руководителей стра- ны родилась такая идея поручить участникам очередного воздушного парада пролететь над Красной площадью чуть ли не на уровне Мавзолея на четырехмоторном гигантском стратегическом бомбардировщике Ту-95. Возможно, у самого Хрущева. Но известно, что правым летчиком у командира самолета Нюхтикова в этом полете, как и при испытаниях этой машины, был Ю. А. Добровольский. Через площадь перестали уже летать еще
при Сталине, а тут — на такой машине! Да еще с таким заданием! Горячих руководителей не остудили события последнего парада над площадью, состоявшегося в мае 1952 года. Тогда в чрезвычайно плохую погоду, которую не смогли предсказать метеорологи, в условиях низкой облачности, на чуть отставшую от графика колонну открывавших парад бомбардировщиков Ту-4 во главе с флагманом — экипажем Василия Сталина, сзади наседала дивизия более скоростных, фронтовых реактивных бомбардировщиков Ил-28. Сближение оказалось настолько опасным, что в последний момент, уже над Москвой, командир дивизии С. Ф. Долгушин по команде с земли увел свои самолеты на Чкаловскую. Дивизия Ту-4-х прошла и развернулась на аэродром своего «парадного» базирования — в Жуковский. Над площадью прошел также полк истребителей МиГ-15, ведомых Алексеем Микояном. Но они, заблудившись, заходили на площадь с совершенно необычного направления — со стороны Каменного моста. «К счастью», все закончилось потерей «лишь» одного экипажа и самолета Ил-28, хотя садиться пришлось (особенно самолетам Ил-28) в условиях еще более ухудшившейся пого
ды не только в Чкаловской, но и в Жуковском, где им уступили полосу Ту-4.
Итогом обсуждения того парада в Кремле, которое вел министр обороны Н. А. Булганин, стали выговоры многим военачальникам, в том числе заместителю министра обороны А. В. Василевскому, главкому ВВС П. Ф. Жигареву, отстранение Василия Сталина от командования авиацией Московского военного округа. Про парады над площадью стали забывать. И вот — возрождение, притом в новом качестве!
Истребителям выполнить это «парадное» задание было относительно проще. Они начинали снижение достаточно высоко (на случай отказа единственного двигателя) и шли на площадь с пологим снижением. Над Красной площадью они резко уходили в «горку». Нюхтиков летел последним, вслед за истребителями, на огромном четырехмоторном Ту-95, взлетавшем, как и другие машины, с аэродрома в Жуковском. Он рассказывал о единственом тренировочном полете: «Я пошел от Академии Жуковского вдоль улицы Горького, спускаясь и поглядывая, как там внизу народ реагирует на шум двигателей. Старался держать минимальную скорость — не более 370—400 км/час, чтобы успеть просесть над площадью и успеть уйти вверх. Прошел над башнями Исторического музея, строго между ними (соответственно заданию), ни слева, ни справа от них и столь близко, что обожгло опасение: не зацепить бы их... винтами. Только успел “провалиться”, даже не двигая штурвалом, а спарашютировав из-за снижения скорости полета, — и уже вижу перед носом храм Василия Блаженного. В этот же момент, наверное, еще опускаясь, ощутил боковым зрением, что нахожусь на уровне Мавзолея, дал полный газ, не думая о шуме четырех двигателей в 60 000 лошадиных сил, и начал круто брать вверх... Потом уже озабоченно спросил сидевшего в хвосте радиста-ис- пытателя Михаила Ивановича Зуйкова: “Точно ли прошли?” Он ответил: “Разве определишь — такая пыль поднялась, выше Василия Блаженного... Но одно ошущение было точным: высота была столь малой, что напоминала взлет на ТБ-3 — так низко опустился хвост самолета”...» Сам Нюхтиков, ощутивший примерно то же, был уверен, что если бы шасси было выпущено, то колеса (это, конечно, некоторое преувеличение) коснулись бы брусчатки Красной площади...
«Разбор» пролета всех самолетов, включая Ту-95, состоялся там же, где несколькими часами ранее его организаторами было дано задание на демонстрационные полеты, — в центре Красной площади. «Задание это давали военные, — вспоминал Нюхтиков. — И сформулировано оно было “просто”: “Вот оттуда, со стороны Исторического музея, вы должны зайти, опуститься на уровень Мавзолея и “горкой” уйти через Василия Блаженного...” Никто ничего не мерил — ни длину площади, ни высоту зданий...»
После пролета экипажи привезли на то же место. Собралось не более 20 человек — помимо членов экипажей. Вначале обсуждали ошибки пилотов истребителей. Замечаний истребителям было много, но обстанов
ка сохранялась довольно благодушной, поскольку маневренность истребителей была достаточно высокой, а на случай отказа двигателей имелась рядом освобожденная от «лишнего» Москва-река — там же, кстати говоря, предписывалось садиться и Нюхтикову, наТу-95, в случае крайней необходимости. Однако, когда очередь дошла до Нюхтикова и когда комиссия просмотрела кинофотоматериалы, наступила гробовая тишина. Без всякого объяснения разбор прекратили и никогда больше к нему не возвращались. Во всяком случае — в присутствии главного исполнителя...
Когда Михаила Александровича уже не стало, один из читателей рукописи настоящей книги, крупный специалист в области динамики полета, усомнился в правдивости рассказа о «пролете»
Ту-95 над Красной площадью: «Это невозможно!» Я не стал его переубеждать.
Во-первых, действительно, риск подобного полета был огромным. Во-вторых, я абсолютно верил и в абсолютную честность Нюхтикова, и в его крепкую память, и, главное, в его мастерство пилота. Он сам и годы спустя поражался тому, что все в том памятном до мельчайших подробностей полете закончилось без беды. Однажды, когда ему было уже трудно ходить, он своими старческими шагами измерил расстояние от Исторического музея до собора Василия Блаженного, чтобы осознать всю опасность приказа, который ему довелось выполнять. Евгений Александрович Горюнов, другой летчик, великолепно знавший возможности Ту-95, а главное, каждодневно открывавший все новые грани летного и человеческого талантов Нюхтикова, ответил на сомнения скептика просто. Он напомнил одно: на прощании с Михаилом Александровичем другой участник памятных событий М. И. Зуйков говорил именно о том пролете на уровне Мавзолея над Красной площадью...
Михаил Иванович Зуйков рассказывал мне позже: «Конечно, летели не ниже Исторического музея. Прежде всего, наделали шуму. Потому что после прохода Исторического музея врубили всем двигателям максимал и сделали “горку”. Никакого “проваливания” после Исторического музея сделать было невозможно. О каком проваливании можно говорить, если у двигателей на разгон требовалось секунд 20?! А на максимале много не поснижаешься. Словом, было, было, но не совсем так...»
Однажды летчик-испытатель ЛИИ Марк Лазаревич Галлай спросил Нюхтикова: «Что Вы, Михаил Александрович, так много говорите о боковой поверхности. Заладили: боковая сила, да боковая сила?!» «Ну, как
же, — ответил Нюхгиков, — об этом знал еще Степанченок! Боковой силой мы и немцев побеждали...» Нюхтиков отдавал должное тому, что Гал- лай много летал, многое сделал. Но некоторыми связанными с ним обстоятельствами был недоволен. Как-то они вместе участвовали в параде. «Он шел впереди справа от ведущего — Ф. Ф. Опадчего на мясищевской ЗМ, а я иду сзади за ними — тройкой Ту-95-х, которую я веду, выдерживая предписанную дистанцию в 1 км. Нам далеко еще от Тушина, а Галлай все отстает, отстает и встает прямо перед носом моего правого в тройке — Добровольского. Тот вынужден тоже отставать — и нарушается строй. Все это в тренировочном полете. Я спрашиваю Галлая: “Что это такое?” Он отвечает: “Я экономлю силы!..” “Кто же так экономит! — говорю я ему не без раздражения. — Вы же угрожаете моему правому летчику!”»
Из летчиков ЛИИ Нюхтиков особо высоко ценил Анохина и Шияно- ва. С ними он встречался не только на парадах. «Это два кита, — говорил он, — два короля летных испытаний. Шиянов был грамотней, лучше подготовлен теоретически, и это был очень волевой человек. Анохин был безотказен в работе. Он брался за все, и его, я считаю, безбожно эксплуатировали. Он бесстрашно лез во все, в любое пекло. Его, теряя всякую меру, заставляли надрываться... Шиянов не отказывался от сложной работы, но подходил к ней более продуманно». Анохина как блестящего летчика Нюхтиков знал еще со времен увлечения планеризмом: «Прекрасный летчик. Спокойный, скромный. Никогда себя не афишировал... Шиянов был строг к себе. Он не пил, не курил. Анохин мог выпить. Но не правы те, кто называет его чуть ли не пьянчугой... Такая работа, такая реакция — это невозможно! А спиться в наших условиях было вполне возможно. Когда я впервые попал в Чкаловскую, с удивлением обнаружил: здесь пьют! Пили, правда, сухие вина. По теории Сте- фановского, вино не действовало на психику. Когда пришел к туполев- цам, вижу: отбою нет. Полет не успел сделать, а на твои деньги — благо, платили летчику хорошо — уже банкет собрали! И хлещут! Я-то одну рюмочку коньяку старался растянуть на весь вечер. Это теперь многие летчики стали трезвенниками, потому что строже стала медицина. А самую большую дозу коньяка я принял в 1941 году после катастрофы на Ту-2, когда меня в санчасти выводили из шока. И Стефановского так же выводили из этого состояния, когда он подломал ноги. С тех еще пор рюмочку хорошего армянского коньяка высшего качества предпочитаю другим напиткам...»
Строгость Нюхтикова в соблюдении режима была общеизвестна. Уж на что подтянутым, дисциплинированным человеком был Георгий Филиппович Байдуков, так и он, когда Нюхтиков поздравлял его с 80-летием, сказал: «Мы могли позволить себе выпить и погулять, но ты-то всегда был далек от этого».
И в связи с этим заданием — пролететь на Ту-95 над Красной площадью, и в связи со многими другими, столь же нелепыми, непрофессиональными, ставившими нередко летчика и экипаж в критическое поло
жение, Нюхтиков озабоченно говорил о нараставшем, по сути, снижении доверия к летчику. С Алкснисом, как ни с кем другим, Михаил Александрович связывал подлинное уважение к личности летчика вообще и летчика-испытателя в особенности. Один из руководителей НИИ ВВС (кстати сказать, самим Алкснисом привлеченный из Ейской школы летчиков) стал командовать так, что среди летчиков во главе со Стефановским начался чуть ли не бунт. Это дошло до Алксниса, и он основательно пропесочил «вояку»: «Ни я летчика- ми-испытателями не командую, ни Вам не разрешаю этого делать. Советоваться, как равному с равными, прислушиваться (они ведь поопытнее Вас) — пожалуйста! Но ни в коем случае не навязывать своего мнения, не давить и не приказывать!»
В массе своей летчики-испытатели не были тогда инженерами. Но Алксниса это не останавливало. Он, будучи, помимо прочего, и летчиком, сознавал, как много зависит от сохраненного самолюбия, уверенности и достоинства летчика. Это после его смерти все активнее летчиками стали командовать все, кому не лень: инженеры, большие и маленькие начальники. И эта хворь, по наблюдению Нюхтикова, не раз мешавшая ему самому, мешала и его более молодым коллегам — испытателям.
Эта мысль о недопустимости диктата, о необходимости развязывания инициативы важна не только и не столько в работе летчиков-испытате- лей. Она важна для будущего нашей авиации, более того — страны. Счастлив народ и его лидеры, если они осознают это не слишком поздно.
Несмотря на то что Михаилу Александровичу шел девятый десяток лет, будущим авиации и будущим страны он был крайне озабочен. Его горячо волновали и исторические аналогии, и мысли современных политических деятелей, ученых, писателей о судьбах России. Их мы обсуждали не раз...
В свое время на многих читателей — любителей истории произвела сильное впечатление безжалостная самокритика двух японских морских офицеров, написавших книгу об одном из разгромных для Японии и позорных для каждого японца морских сражений Второй мировой войны. Мир знает, как быстро эта страна после жестокого военного поражения встала на ноги и вышла на самые передовые позиции в научном, техни
ческом, культурном творчестве. Несомненно, это и следствие умения сделать правильный вывод из поражения, неудачи. Вот что писали японцы через два-три года после окончания войны: «...Главная причина поражения Японии не только в сражении у о. Мидуэй, но и во всей войне заключается в особенностях национального характера японцев. Для нашего народа характерна нелогичность в поступках. Японец часто принимает решение под влиянием порыва, а это приводит к действиям случайным и часто противоречивым. Традиционный провинциализм — вот источник нашей ограниченности и догматизма. Мы неохотно расстаемся с предрассудками и медленно принимаем даже необходимые улучшения, если они несут с собой новые идеи. Из-за своей нерешительности мы легко становимся чванливыми, что в свою очередь порождает в нас презрение к другим народам. Мы соглашатели, но из-за отсутствия смелости и чувства независимости привыкли полагаться на других и раболепно подчиняемся старшим начальникам. Отсутствие трезвого подхода к действительности часто приводит к тому, что мы принимаем желаемое за действительное и поэтому действуем без тщательно разработанного плана. Только тогда, когда наши поспешные действия оканчиваются неудачей, мы начинаем анализировать их обычно для того, чтобы оправдать свои неудачи. Короче говоря, нам, как нации, недостает зрелости ума и собранности, благодаря которой мы знали бы, когда и чем жертвовать во имя главной цели.
Таковы отрицательные черты японского национального характера. Они и привели к поражению, которое мы потерпели в сражении у о. Мидуэй и которое зачеркнуло все смелые подвига и драгоценные жертвы тех, кто принимал в нем участие. В этих отрицательных чертах лежит причина и всех несчастий Японии».
Когда я прочел эти строки Михаилу Александровичу Нюхтикову, он, знавший японцев «в деле», поразился более всего как раз их желанию защититься от ограниченности начальства и их умению не повторять очевидных ошибок...
Прежде, чем закончить разговор о предвоенном опыте, еще несколько слов о важности учета собственных ошибок. И для нас это насущная необходимость. Народная мудрость о том, что за одного битого двух небитых дают, гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Поражение в примитивной уличной драке, полуголодное детство, любые жизненные, бытовые невзгоды, конечно же, дают многое тем, кто способен делать безжалостные по отношению к себе, пусть обидные поначалу, но конструктивные, в конечном итоге, хладнокровные выводы. Но еще более это важно, когда речь идет об ошибках крупномасштабных, стратегических, касающихся не отдельной личности, но народа, страны, их перспектив не на годы, но — десятилетия и века. Наши вечные бездорожье, грязь, разрозненность, неурожай — не дают нам необходимого «пинка» — проснуться, призадуматься и действовать, они давно уже побеждают нас. В Германии, в исторически недавнем прошлом,
чуть больше ста лет тому назад, Бисмарк поднял свой народ на борьбу практически с теми же бедами. Итог известен.
Свежие комментарии