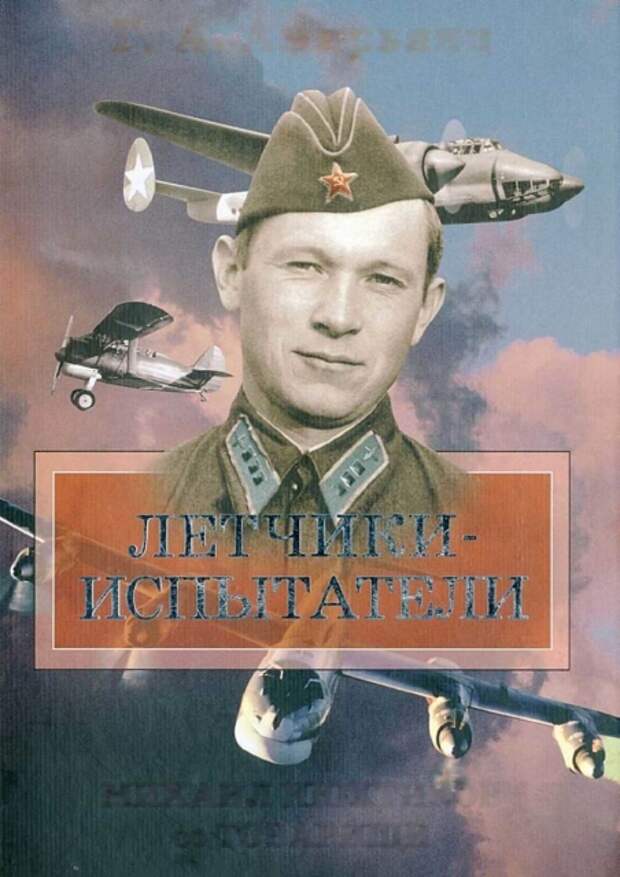
При всей своей сдержанности Нюхтиков всегда восторженно говорил об успехах А. Н. Туполева, а также И. И. Сикорского в развитии тяжелого самолетостроения. Самолеты ТБ-1, ТБ-3, ТБ-4, АНТ-26, Пе-8, как и родоначальники тяжелой бомбардировочной авиации «Русский витязь», «Илья Муромец», — каждый в свое время — явились новым словом в истории мировой авиации.
Уместно привести здесь малоизвестные воспоминания Ивана Никитовича Квитко. Он писал об одном из эпизодов предвоенной командировки в США: «Побывали мы и на заводе Сикорского... У завода нас встретили и провели в кабинет Сикорского. Впереди шел Андрей Николаевич. Сразу после открытия двери мы все остановились и не знали, что делать: в углу за столом сидел Сикорский. Над ним был целый иконостас икон и горела лампада. После первого замешательства Туполев переступил порог. За ним вошли наши уважаемые профессора, а за ними и остальные члены комиссии. Сикорский поднялся и поздоровался за руку с Андреем Николаевичем, всем остальным слегка наклонил голову и предложил Туполеву сесть. Мы все, другие члены комиссии, стояли... Наступила пауза. Через минуту Андрей Николаевич спросил: «Над чем работаете, Игорь Иванович?» Сикорский ответил: «Строим амфибию — “сорок вторую”... Дальше Сикорский спросил: «А у вас, Андрей Николаевич, что сейчас в работе?» Туполев также что-то ответил двумя словами. Разговор явно не получался: сразу было видно, что наша комиссия ему навязана сверху и разговаривать с нами он не хотел. После очередной паузы в комнату вошел чисто одетый, пахнущий дорогими духами, очень красивый, выше среднего роста человек лет сорока пяти. Обращаясь ко всем сразу, представился: «Шеф-пилот Игоря Ивановича, князь Серги
евский». Дальше Сикорский произнес еще пять слов: «Князь Сергиевский вам все покажет», и мы вышли. Князь оказался довольно разговорчивым человеком. Он повел нас в сборочный цех. Князь нам сказал: «Игорь Иванович помогает своим соотечественникам, дает им работу. На заводе работают только русские!..» Князь нам сказал, что на их заводе мы были первыми людьми, приехавшими из «теперешней России», и что работающим на заводе разговаривать с нами не разрешили. После короткого осмотра цеха князь... повел нас обратно. У двери здания, в котором находился кабинет Сикорского, стоял он сам... Он простился за руку с Туполевым, что показывало на окончание нашей встречи. Вышли мы со двора завода и в расстроенных чувствах молча пошли к своим машинам. Спустя две-три минуты Туполев в сердцах произнес: «Мерзавец». Так грустно закончилась встреча двух корифеев русского самолетостроения...
У Сикорского были куплены два экземпляра самолета-амфибии С-42. До войны они эксплуатировались в северных районах нашей страны... В годы войны Сикорский прекратил занимать открыто враждебную позицию по отношению к СССР и остават- ся лояльным до конца своей жизни...»
Мне представляется интересным другое воспоминание о Сикорском — М. В. Ульянова. В мае 1972 года он вместе с другими туполевцами участвовал в авиационной выставке в Ганновере в качестве ведущего инженера по летным испытаниям самолета Ту-154. Фирма Туполева была представлена тогда двумя самолетами: Ту-154 и Ту-144. Возглавлял делегацию Алексей Андреевич Туполев. На «154-й» командиром был Ю. В. Сухов, а на «144-й» — Э. В. Елян. Как-то к Еляну и Ульянову подошел незнакомец и представился: «Я — Сергей Игоревич Сикорский. Никак не могу встретиться с Алексеем Андреевичем. Я вас приглашаю в гости. У меня здесь рядом с Ганновером дом, там живет моя жена. Я знаю ваши порядки, знаю, что вы сами не можете принять решение, но я вас приглашаю...» Было ясно, что он видит, с кем говорит. «Я за вами приеду», — продолжил он и назначил время. Елян спросил: «А кого мы можем пригласить?» Он ответил: «Я бы очень хотел, чтобы вы пригласили Алексея Андреевича, кого-нибудь из вертолетчиков и вообще кого сочтете нужным, человек десять...» Ульянов вспоминал: «Когда мы рассказали об этом Алексею, он сразу замахал руками, напугался. Мы доложили товарищам из КГБ, они сказали, что это очень хорошо: “Пойдем в гости!” Взяли мы вертолетчика с Камов- ской фирмы, пришел микроавтобус “фольксваген”, и мы поехали в пригород Ганновера. Подъехали к двухэтажному домику в поселке. Черепичная, замшелая крыша, старый, темный кирпич. Мрачноватого, непарадного вида домик. Зашли внутрь и обомлели. Мрамор, все надраено, начищено, все современно, устроенно. Пригласили нас в зал с дубовым непокрытым столом, рядом — тяжелые дубовые кресла. Камин, в котором жарится всякое мясо... Провели хороший вечер. Сикорский был человеком тактичным, и не было никаких разговоров по технике. Разговоры были о жизни, деликатные, домашние. Жена у Сергея Сикорского была гостеприимной немкой. Сергей Игоревич рассказал об отце, о его мытарствах в начале работы в Штатах. Когда он, выдающийся русский конструктор, переехал туда, дела пошли у него плохо. Он построил самолет, но не мог купить двигатели. Самолет был четырехмоторный. И моторы ему купил С. В. Рахманинов.
Однажды президент США пригласил Рахманинова сыграть в Белом доме для каких-то важных гостей. Рахманинов схитрил, сказав, что сыграл бы с удовольствием, но играет только на своем рояле. При этом добавил, что есть такой конструктор Сикорский. Он-то может привезти рояль на своем самолете... К Сикорскому обратились люди президента. Рояль в самолет не влезал, пришлось оперативно расширить его люк. Концерт состоялся вовремя, и на нем присутствовал Сикорский. Рахманинов не дал ему переодеться, и он был в летном комбинезоне. Никакого концерта он не слышал, проспал где-то в углу, потому что без сна двое суток он и его люди старались решить неожиданную транспортную задачу. Когда Рахманинова стали благодарить за концерт, он ответил: “Я-то что? Для меня это дело привычное! Вот кто герой этого концерта — он в уголке сидит”. После этого президент пригласил Сикорского к себе на прием для обсуждения технических проблем. Тогда фирма Сикорского получила большой заказ на самолет — с этого началось его шествие как выдающегося американского авиационного конструктора. А через несколько дней после этого замечательного события в семье Игоря Сикорского родился сын, который нас принимал в Ганновере. В честь Рахманинова его назвали Сергеем.
Потом, когда мы с Еляном были в Париже, Сергей Сикорский еще раз подходил к нам, мы подолгу разговаривали, и он подарил нам с Еляном памятный сувенир: кусочек перкалевой ткани одного из ранних самолетов отца, «запаянный» внутри прозрачного куска плексигласа...»
Мне тоже посчастливилось познакомиться с Сергеем Сикорским — уже в Москве. Он был хорошо осведомлен о достижениях нашей страны, прежде всего в вертолетостроении, и он дорожил нашими очевидными успехами в этой области...
Возвратимся, однако, к рассказу о первых годах становления советской тяжелой авиации. Зная условия, в которых жили и работали страна в целом и ЦАГИ в частности, нельзя не поражаться глубине и размаху научных проектных изысканий, а также масштабам достижений в технологии, в организации многоотраслевого авиационного производства.
Смелость Туполева-конструктора и смелость Туполева-организато- ра, кажется, не знала границ. В 1929 году в ЦАГИ были начаты работы по уже упоминавшемуся 12-моторному бомбардировщику АНТ-26 (ТБ-6) с размахом крыла 95 м! Его максимальная бомбовая нагрузка составляла 24,6 т и максимальная скорость — 275 км/ч. В 1935 году началась постройка самолета ТБ-6. Но вскоре она была прекращена. Главной официальной причиной была уязвимость тихоходных гигантов, имевших незначительный практический потолок — не выше 6000 м. Но, по убеждению Михаила Александровича, была и другая, более «весомая» причина. Противников нашей страны не могла не пугать мощь ее бомбардировочной авиации, прямо связанная с именем и талантом А. Н. Туполева.
К тому времени СССР занимал передовые позиции в создании сверх- тяжелых машин. При этом нельзя забывать и того, что Туполев в каком- то смысле отвечал на вызов Германии. Ведь тяжелая двенадцатимоторная немецкая машина фирмы «Дорнье» сделала свой первый вылет еще в 1929 году. Эта машина имела гражданское предназначение, но опыт ее создания позволял проектировать и бомбардировщик. Нюхтиков, повторимся, не сомневался, что прекращение работ над ТБ-6 (и даже катастрофа «Максима Горького», который мог использоваться для бомбардировок) не обошлось... без искусного немецкого влияния...
Что касается самих немцев, то, как мне говорил Нюхтиков, опираясь на неизвестные мне источники, в Германии к концу войны разрабатывали ряд проектов сверхтяжелых машин. По замыслу, который не был реализован, наибольшую дальность, скорость и бомбовую нагрузку имела «связка» самолета-носителя и соединенного с ним 40-тонного штурмовика с 30 тоннами бомб, отделявшегося при приближении к цели, очевидно, за океаном. Об этом проекте Михаил Александрович рассказывал мне, показывая собственные схематические рисунки «связки». Носитель возвращался на свой аэродром, а штурмовик садился после атаки цели на воду, в заданном районе, и его экипаж подбирали немецкие подводные лодки. Так же, как и терявшийся штурмовик, сохранявшийся носитель был оснашен, по проекту, реактивными двигателями — четырьмя или шестью.
Размеры предвоенных самолетов Туполева поражают воображение и поныне. Но размером — размахом и «высотой» (точнее, толщиной) — крыла, главным образом. На «Максиме Горьком» можно было не сгибаясь пройти внутрь крыла до шестого мотора (высота крыла в корне была около 2,5 метра). В ТБ-4 также можно было пройти внутри крыла к стрелковым точкам, которые располагались за внешними моторами. Однако высота фюзеляжа, по крайней мере у «Максима Горького», была недостаточной. Она была равна максимальной толщине крыла. (Между прочим, для некоторых типов самолетов — и самых современных, малозаметных боевых самолетов интегральной схемы — такое соотношение высоты крыла и фюзеляжа как раз нормально. Но оно приемлемо, а в ка- ком-то смысле и наиболее эффективно лишь при наличии высокой культуры автоматизации полета, которой в 30-е годы не было...)
Историю своей авиации имеют немногие страны, хотя таких стран больше, чем стран, которые сегодня имеют свое авиастроение. История эта связана не только с наиболее эффективными, получившими всеобщее признание, «успешными» самолетами. Она также о «неудачниках», «одиночках», которые стали своеобразной революцией в том или ином направлении самолетостроения. У этой истории есть еще одна особенность — субъективизм.
Бомбардировочная авиация — особенно яркий тому пример. Вот короткий взгляд на ее развитие «из-за бугра», с западной точки зрения. Он несколько отличается от нашего собственного и позволяет приблизиться к объективной истине.
Пожалуй, первыми самолет в качестве бомбардировщика для уничтожения стратегических целей противника использовали англичане. Первый в мире бомбовый прицел в реальной бомбардировке был испытан на самолете братьев Райт в 1911 году. А 8 октября 1914 года на самолетах Соп- вич «Таблоид» британские летчики атаковали важные германские цели: Грэй — железнодорожную станцию в Кёльне, а Мэтрикс — новый дирижабль Цеппелин Z. IX в Дюссельдорфе. Самолетов этого типа было построено более 200. Неделей позже самолеты «Авро-504» разрушили водородную станцию и производство дирижаблей в Фридрихсхафене, в Германии. Общее число легендарных «Авро-504», выпущенных с лета 1913 года до конца войны в 1918-м, составило в различных модификациях 8000! Конструктора этого самолета сэра Эллиота Вердон-Роэ с основанием причисляют к самым выдающимся деятелям первого пятидесятилетия авиации. Так, во всяком случае, считает автор книги «Выдающиеся авиаторы» Н. Макмиллан. В его «списке»: братья Райт, Луи Блерио, сэр Джеффри дэ Хевилленд, Антони Фоккер, Хуан де ла Сиерва, Фрэнк Уиттл... — всего 20 выдающихся имен. И ни одного русского — вряд ли это справедливо.
Поначалу самолеты использовались в основном для целей разведки, наблюдения и устрашения противника. В этом качестве их особенно интенсивно применяли немцы и итальянцы. Первым в истории боевым пилотом, сбросившим три двухкилограммовые гранаты на противника, был, кажется, итальянец Джавотти. Он пилотировал самолет Этрих «Та- убэ», и случилось это во время итало-турецкой войны 1911 — 1912 годов. В конце той кампании итальянцы применяли уже специально сконструированные бомбы. Их девять самолетов использовались в Ливии для того, чтобы выбить турок из столицы страны Триполи. Поразительно, но в относительно маленькой Австрии, об авиационном прошлом которой мало кто сейчас вспоминает, было выпущено 500 самолетов Этриха. Австрийцы, кстати сказать, первыми (в 1849 году) использовали для бомбардировок Венеции воздушные шары. Этот «опыт» бомбардировок мирных целей повторили французы (в 1912 году) в Марокко.
Легендарным тяжелым бомбардировщиком той поры был российский четырехмоторный самолет «Илья Муромец», впечатлявший мировыми достижениями грузоподъемности, продолжительности, дальности и высоты полета. Это признают и за рубежом. В феврале 1914 года этот самолет-гигант установил выдающийся рекорд: он поднял 16 человек на высоту 2000 м. Всего было построено 80 машин, что позволило создать первое в мире соединение тяжелой авиации. Всего в результате боевых действий противника в Первой мировой войне было подбито лишь два таких самолета. Один из них совершил вынужденную посадку, а про другой известно, что он в своем последнем бою успел уничтожить 3 германских истребителя... Что и говорить, самолет был замечательным. Тем не менее не следует преувеличивать свои достижения, помня уроки — и свои, и чужие. За период с 1914 по 1918 год в России было построено 5607 самолетов, в Италии — в 2 раза большее, в США — почти в 3 раза, в Великобритании, Франции, Германии — в 10 раз большее. Тогда же Россия производила 1511 авиационных моторов, что составляло менее сотой части того, что производили ее союзники.
Французские военные одними из первых поняли, что самолеты имеют особое значение в качестве бомбардировщиков. Самолет-биплан конструкции братьев Рене и Гастона Каудрон С. IV, выпущенный в 1915 году, имел два мотора, максимальный взлетный вес 1330 кг при бомбовой нагрузке 100 кг, максимальную скорость 132 км/ч у земли, потолок 4300 м, продолжительность полета 3,5 часа. Эти самолеты воевали также в составе английских и итальянских вооруженных сил. Несколько самолетов этого типа во время Первой мировой войны использовались в качестве разведчиков Российской армией. Всего было построено 1358 машин «Каудрон» в.IV и 249 — «Каудрон» Я.4
Сегодня трудно назвать Италию, да и Германию крупными авиационными державами. А во время Первой мировой войны у итальянцев воевали 164 тяжелых трехмоторных бомбардировщика-биплана Капрони Са 2. Фирма Капрони строила небольшой серией еще более тяжелый самолет-триплан Са 40 (Са 4), а в конце войны в строю находились 255 скоростных бомбардировщиков Са 5, которые в последующем строились на заводах во Франции и в США (общим числом 740).
Первый эпизод бомбардировок связан у немцев с именем фон Хидде- сона, сбросившего две легкие бомбы на Париж с моноплана Этриха «Та- убэ* 13 августа 1914 года. Мир был шокирован, когда в том же 1914 году с самолета «Таубэ» на Париж было сброшено более 50 бомб. Тогда с протестом к германскому кайзеру Вильгельму обратился президент США Вудро Вильсон...
Первые германские тяжелые стратегические бомбардировщики («Си- менс-Шукерт Штеффен», «Цеппелин-Штаакен Ферзух», «Гота Ост») вошли в боевой строй в 1916 году. Было построено значительное число гигантских бомбардировщиков «Цеппелин-Штаакен» ИУН, а также тактических бомбардировщиков Гота. В Первую мировую войну самолет Гота, которого историк авиации Уолтер Бойн включил в двадцатку «классических» самолетов мира, стал настолько известным, что его название стало общепринятым определением вражеского бомбардировщика.
Зарубежные исследователи, в том числе весьма объективные, оценивают наши успехи 20—30-х годов более скромно, чем порою мы сами. Наш наиболее важный на каком-то этапе самолет ТБ-3 (АНТ-6) считают всего лишь увеличенной копией самолета ТБ-1 — с четырьмя моторами вместо двух. Главное же, указывают на то, что первым цельнометаллическим самолетом был не ТБ-1, как утверждают у нас, а немецкий «Юнкере». Этот самолет Германия поставляла в СССР, и ТБ-1 будто бы был лишь его улучшенной копией. Известно, впрочем, что фирма «Юнкере» безуспешно пыталась предпринять юридические акции против ЦАГИ, обвиняя его в нарушении своих патентных прав.
Первым в мире цельнометаллическим монопланом действительно был немецкий самолет «Юнкере» Б-13. Его первый вылет состоялся летом 1919 года. Всего было построено около 320 машин в различных вариантах. В версии «Юнкере» Б-13 К-30 самолет выпускался в СССР, на заводе в Филях. Для фирмы «Юнкере» работа в России в период с 1923 по 1927 год была удобной возможностью обойти ограничения Версальского договора, нам же это позволило ускорить переход к использованию дюралюминия и проектированию монопланов. Первый вылет самолета ТБ-1 состоялся в 1925 году, и вряд ли можно исключать влияние на его конструкцию новаторских решений, принятых на немецком самолете. Но и не более того. Во многом самолет ТБ-1 был самостоятельной разработкой. Причем, несмотря на прогрессивную конструкцию цельнометаллического моноплана ТБ-1, он оказался менее скоростным и менее живучим, чем его современники — бипланы с полотняной обшивкой «Хэйфорд» и «Сайдерстрэнд».
Самолетов ТБ-3 было построено втрое больше, чем ТБ-1, и они имели гораздо более значительную бомбовую нагрузку (5000 кг против 1360). ТБ-3, по оценкам западных специалистов, был хорошо вооружен, но опять-таки по скорости и живучести уступал современным ему бипланам.
Возвращаясь к первым шагам в развитии тяжелой бомбардировочной авиации, следует подчеркнуть особую роль создателей тяжелых четырехмоторных самолетов-бомбардировщиков, построенных в России еще до Первой мировой войны. Среди них прежде всего — И. И. Сикорский. Впоследствии он же проложил дорогу строительству коммерческих тяжелых самолетов. Он сам первым поднял в воздух (в начале 1934 года) свою четырехмоторную летающую лодку S-42. На ней ряд летчиков, в их числе шеф-пилот Сикорского Борис Сергиевский, Чарльз Линдберг и другие, установили около десятка мировых рекордов для гидросамолетов. Этому типу самолетов уделялось особенное внимание почти с самых первых шагов в развитии авиации.
Первый свой гидросамолет, летающую лодку, а также амфибию выдающийся американский конструктор Гленн Куртисс представил еще в 1911 году. Годом ранее с воды впервые в мире взлетел гидросамолет француза Анри Фабра. Зимой 1910-1911 годов военно-морские силы США осуществили первый взлет самолета с корабля и посадку на его палубу. Этот же самолет (того же Куртисса) был использован для первых испытаний катапультного взлета.
Линию создания тяжелых гидросамолетов успешно продолжили наряду с Сикорским Гленн Мартин, построивший в том же 1934 году легендарную «гражданскую» летающую лодку М-130 China Clipper, а также фирма «Боинг», создавшая самые большие лодки. Этот опыт вскоре позволил фирме «Боинг» построить ряд тяжелых боевых самолетов.
О Гленне Мартине стоит сказать отдельно. Он громко заявил о себе, когда ему, талантливому 32-летнему пилоту, инженеру и бизнесмену, предложили создать двухмоторный трехместный бомбардировщик. Командование ВВС США ставило перед конструктором «единственную» задачу: чтобы по своим характеристикам самолет превосходил самый знаменитый в то время, в 1918 году, английский «Хэндли Пейдж» 0/400. Именно этот самолет наряду с трехмоторным итальянским «Капрони» Са-5 был выбран для производства (сборки) в США. К тому времени Мартин имел уже значительный опыт работы в авиации, притом с людьми выдающимися: с Лоуренсом Беллом (еще с 1912 года), с Дональдом Дугласом, Джеймсом Мак-Доннэллом, Орвилом Райтом... Уже через восемь месяцев после получения заказа военного ведомства США, в конце 1918 года, опытный пилот Эрик Шпрингер поднял в воздух двухмоторный биплан GMB. Военные закупили более сотни экземпляров модификации этого самолета МВ-2, ставшего на пять лет основным бомбардировщиком США и законодателем моддля других конструкторов. В конкуренции с последующей работой Гленна Мартина — дальним бомбардировщиком В-10, а также с самолетом «Дуглас» ХВ-19 в конечном итоге родился исторический самолет фирмы «Боинг» В-17.
Более полутора тысяч экземпляров другого самолета — четырехместного бомбардировщика фирмы «Мартин» 187 Baltimor было построено в США по ленд-лизу для ВВС Великобритании с мая 1941 года. Оснащенный двумя моторами «Райт R-2600 Циклон» по 1660 л.с., самолет версии Mk-IV с бомбовой нагрузкой 450 кг имел максимальный взлетный вес 10250 кг, дальность 1741 км и максимальную скорость 491 км/ч на высоте 3500 м.
Техническое задание на бомбардировщик В-17 армия США выдала в мае 1934 года. А в конце июля 1935 года выполнил первый полет самолет фирмы «Боинг» модели 299— прототип самолета В-17 (YB-17).
В упоминавшейся книге «Классические самолеты» одним из 20 выделенных наиболее ярких самолетов всех времен Уолтер Бойн назвал также В-17, «первый американский бомбардировщик Второй мировой войны». Создание этого самолета, «единственного в своем роде и по красоте», он связал с именем 24-летнего Эдварда Уэллса, которого, «все, кто его знал, считали гением». Главное усовершенствование, которое он предложил наряду с другими улучшениями В-17, было оснащение моторов «Райт Циклон» турбонагнетателями фирмы «Дженерал Электрик».
Опытный образец самолета потерпел катастрофу: при испытаниях в Райт-Филд погибли майор ВВС П. Хилл, а также шеф-пилот фирмы «Боинг» JI. Пауэр. В печати сообщалось, что при этом произошло сваливание самолета при взлете с застопоренным управлением. Случилось, кажется, аналогичное тому, что привело к гибели на немецком самолете- предшественнике среднего бомбардировщика «Хейнкель» Не 111 начальника штаба Люфтваффе В. Вефера.
Крупносерийное производство различных вариантов самолета В-17, получившего название «летающая крепость», началось в 1939 году, и всего было построено около 13 000 машин! В-17 был создан в 1935 году, почти на год раньше самолета ТБ-7. Понадобилось четыре года сомнений, понадобилось создание надежных турбокомпрессоров, прежде чем было принято решение о крупносерийном производстве машины В-17, которая с этими самыми турбокомпрессорами преобразилась.
Мне довелось побывать в одном из цехов завода фирмы «Боинг» в Сиэтле, где эти самолеты выпускались и был любовно сохранен один из них как действительная историческая реликвия. Самолеты В-17 строились также по лицензии на заводах фирм «Локхид» и «Дуглас». Вариант B-17G имел четыре поршневых мотора «Райт R-1820 Циклон» с турбонагнетателями по 1200 л.с. мощности каждый. Максимальный вес самолета составлял около 30 т и дальность полета с бомбовой нагрузкой 2700 кг — 2300 км. Максимальная скорость полета на высоте 7620 м достигала 462 км/ч. Экипаж «крепости» состоял из 11 человек.
Самолетом следующего за В-17 поколения, еще более массовым, был тяжелый бомбардировщик фирмы «Консолидейтед» В-24 Liberator. Начало его создания связано с концом первой половины 30-х годов. Первый полет прототипа самолета ХВ-24 состоялся в самом конце 1939 года, а в 1941 году он поступил уже на вооружение. До появления турбокомпрессоров заурядной была и эта машина. Но затем, с турбокомпрессорами, машина выпускалась во многих версиях, с экипажем от 7 до 12 человек; общее число построенных самолетов превысило 19 ООО! Максимальная бомбовая нагрузка варианта В-24 H/J составила 5800 кг, а дальность полета 3380 км.
Несмотря на столь внушительное количество выпущенных самолетов В-24, не его, а В-17 считали наиболее эффективным «самолетом-сол- датом». Однако и у «крепости» В-17 была известная слабость: он был неудовлетворительно защищен. Достаточно сказать, что в двух массовых бомбардировках объектов в Германии 17 августа и 14 сентября 1943 года наши американские союзники потеряли 120 бомбардировщиков В-17. Из построенных 12 731 машин В-17 было потеряно 4750 машин! Огромные потери! Помимо слабой защищенности недостатками В-17 были также относительно малые дальность и бомбовая нагрузка.
Если французская бомбардировочная авиация впечатляла в период Первой мировой войны, то английская — накануне Второй. Опытный экземпляр двухмоторного бомбардировщика «Армстронг Уитворт A. W.38» Whitley был испытан весной 1936 года. При максимальном взлетном весе 15 195 кг дальность полета самолета составляла 2414 км, потолок 7925 м и максимальная скорость 370 км/ч на высоте 5000 м. Было построено 1814 самолетов. Правда, к началу войны они устарели и использовались лишь в ночных бомбардировках.
В еще большем количестве — около 4000 — выпускался строившийся во второй половине 30-х годов для ряда стран двухмоторный бомбардировщик «Бристоль» Blenheim.
Еще более знаменитый английский самолет — дальний четырехмоторный бомбардировщик «Хэндли Пейдж» Н. Р. 57 Halifax, впервые взлетевший в конце 1939 года и имевший хорошие характеристики, был построен в еще большем количестве — 6178 машин. Его максимальная скорость достигала 454 км/ч на высоте 4115 м, максимальный взлетный вес — 29 484 кг, с бомбовой нагрузкой 5897 кг, дальность полета 1658 км и потолок 7315м. Этот самолет входил в известную триаду бомбардировщиков Англии — наряду с самолетами «Шорт» Stirling и «Авро» Lancaster.
Тяжелый бомбардировщик «Авро» Lancaster, оснащенный четырьмя моторами «Роллс-Ройс Мерлин» мощностью по 1640 л.с. каждый, впервые был поднят в воздух 31 октября 1941 года. Рядом английских фирм, и прежде всего фирмой «Авро», было построено в обшей сложности 7377 этих самолетов различных модификаций. В 1945 году на вооружении Англии оставались еще 1000 этих самолетов... Экипаж самолета состоял из 7 человек. Максимальный взлетный вес машины составил 31 750 кг, дальность с бомбовой нагрузкой 3175 кг — около 4075 км, скорость на высоте 3500 м — около 460 км/ч.
Мы уже говорили об английских гидросамолетах фирмы «Шорт».
Осенью 1929 года с Боденского озера взлетела впервые поистине гигантская 12-моторная немецкая трехпалубная летающая лодка Дорнье Do X. Через год этот самый большой самолет того времени в мире совершил со 169 пассажирами полеты в Африку, Северную и Южную Америку. Гигантские лодки — как правило, это были пассажирские, транспортные машины — строились на стыке 30-40-х годов не только в Германии (в Гамбурге в 1940 году взлетела еще 6-моторная BV 222 Wiking), но также во Франции (6-моторная Latecoere L.631 Lionel de Marmier поднялась в воздух в 1942 году). В США большие 4-моторные лодки строились, как уже говорилось, в начале 30-х годов фирмой «Сикорский» (S-40 и S-42 «Clipper»), а также фирмой «Мартин» (М 130 «China Clipper»).
Первая отечественная цельнометаллическая лодка — морской дальний разведчик МДР-2 — создавалась в ОКБ Туполева начиная с 1925 года и была впервые поднята в воздух С. Т. Рыбальчуком 30 января 1931 года.
Примерно тогда же в нашей стране была построена и взлетела летом 1934 года 6-моторная летающая лодка А. Н. Туполева АНТ-22 — для целей разведки и выполнения других боевых и транспортных работ, а в 1938 году был создан морской тяжелый бомбардировщик Туполева МТБ-2 (АНТ-44).
Практически все отечественные проекты гидросамолетов имели военную направленность и были весьма разнообразными. Впечатляли своими размерами морские тяжелые бомбардировщики. 6-моторный морской крейсер МК-1 (АНТ-22) ЦАГИ начал создавать в 1931 году, а в 1936 году на нем были установлены мировые рекорды грузоподъемности. В целом к тому моменту машина уже устарела и в серии не строилась. Но на основе полученного опыта, на основе опыта проектирования морского дальнего разведчика МДР-4 и морского тяжелого бомбардировщика МТБ-1 стало возможным создание в ЦАГИ более совершенного — МТБ-2. В испытаниях первой опытной машины МТБ-2 участвовали Т. В. Рябен- ко, М. М. Громов, А. Б. Юмашев. На второй опытной машине МТБ-2, которую поднимал М. Ю. Алексеев, экипаж военного летчика И. М. Сухомлина, проводившего государственные испытания, установил (летом 1940 года) ряд мировых рекордов высоты и скорости полета с грузом. Но и этот гидросамолет не строился в серии.
Создание гидросамолетов — особая страница в истории развития мировой авиации.
Прежде всего Морской дальний разведчик МДР-4 (АНТ-27)
это были самые скоростные самолеты своего времени. Не случайно проблемы аэроупругости, и прежде всего флаттера, впервые наиболее остро проявились именно на гидросамолетах. Помимо значительных скоростных напоров характерной особенностью гидросамолетов были также впечатляющие размеры, это были самые большие самолеты своего, да и последующего времени. Достаточно сказать, что размах крыла 8-моторного гидросамолета Hercules составил 97,5 м! Строительство лодки началось в 1942 году. Взлетела она в 1947 году, и пилотировал гигантский гидросамолет руководитель фирмы мультимиллионер Ховард Хьюз. Полет этот был единственным, и нельзя сказать, что развитие тяжелой гидроавиации в последующем было интенсивным. Но развитие ее не остановилось. Так, в 1952 году в Англии поднялась в воздух 6-моторная лодка Saunders-Roe «Princess» с размахом крыльев 66,9 м...
Можно только поражаться смелости Гитлера (а возможно, и хитрому уму тех, кто привел его к власти и подтолкнул к разрушительной для всей Европы войне), ведь ему противостояла могучая сила союзников, имевших в отличие от Германии право длительное время «ковать свое оружие*. Но Гитлер, поправ международные нормы, быстро наверстывал упущенное — в том числе и в создании тяжелой бомбардировочной авиации.
Осенью 1936 года был испытан опытный вариант стратегического тяжелого четырехмоторного бомбардировщика фирмы «Дорнье» Do 19 с
максимальным взлетным весом 18 500 кг при бомбовой нагрузке 1600 кг и дальности полета 1600 км. После гибели в авиакатастрофе одного из энтузиастов развития в Германии тяжелой бомбардировочной авиации предпочтение отдали массовому выпуску истребителей и тактических бомбардировщиков. Подобного рода средних бомбардировщиков «Хейн- келъ» Не 111 было выпущено 7300. Этот двухмоторный самолет имел скорость полета у земли 365 км/ч, максимальный взлетный вес 14 000 кг при бомбовой нагрузке 1 т, дальность полета 1950 км. Его выпускали с 1935 по 1944 год.
Другой немецкий средний бомбардировщик «Дорнье» Do 217 за период с 1939 по 1945 год был построен в количестве 1730 машин. Максимальный взлетный вес самолета составлял 16 700 кг при весе бомб 4 т. Максимальная скорость полета на высоте 5700 м составляла 560 км/ч, дальность — 2150 км и потолок — 9500 м. Другой средний бомбардировщик фирмы «Юнкере» Ju 52/3m не превосходил Do 217 по характеристикам, но выпускался большей серией — 5000 самолетов.
На стороне гитлеровской коалиции в Европе воевал итальянский трехмоторный средний бомбардировщик CRDA CANT Z.1007. Он строился с весны 1937 года, и всего была выпущена 561 машина. Ее максимальная скорость полета составляла 465 км/ч на высоте 4000 м, дальность — 1750 км, потолок — 8200 м. Максимальный взлетный вес самолета составлял 13 620 кг при бомбовой нагрузке 1 т.
Рекордным по количеству произведенных самолетов этого класса в Германии был «Юнкере» Ju 88, с конца 1936-го их было построено 15 000 — во множестве вариантов. Максимальный взлетный вес самолета составлял 14 000 кг при бомбовой нагрузке 2 т. Максимальная скорость полета достигала 470 км/ч на высоте 5300 м, дальность — 2730 км и потолок — 8200 м.
Относительно небольшой серией (262 машины) в Германии в 1940— 1944 годах выпускался также тяжелый четырехмоторный бомбардировщик Курта Танка, построенный на основе созданного в 1936 году прогрессивного проекта дальнего пассажирского самолета «Фокке Вульф» FW 200 Condor. Максимальный взлетный вес самолета с бомбой в 1 т составлял 24 520 кг. Максимальная скорость полета равнялась 360 км/ч, дальность — 3560 км и потолок — 6000 м. Помимо бомбардировок самолет выполнял транспортные операции по поддержке удаленных подводных лодок. На этом самолете немцы доставляли грузы войскам, окруженным под Сталинградом.
Очевидно, что противостоял нам очень сильный противник. Но были у нас и мощные союзники. Так что, помня о собственных несомненных достоинствах, позволивших вместе с союзниками одолеть такого врага, нельзя забывать о достижениях в рассматриваемой области авиации и тех, и других. Нелишне помнить не только о характеристиках наших самолетов, но и о масштабе их производства: всего самолетов ТБ-1 было выпушено (с 1928 по 1932 год) 218 экземпляров, а самолетов ТБ-3 (в 1932— 1937 годах) — 818. По-настояшему массовыми были лишь самолеты СБ (их было произведено в 1934—1940 годах 6656 экземпляров), а также Пе-2 и Ил-4. С конца 1940 года до конца войны было выпущено 11 ООО самолетов Пе-2; еще 427 самолетов было построено после войны. Количество произведенных самолетов Ил-4 составило 5256. Кроме того было построено около полутора тысяч его предшественников типа ДБ-3 и ДБ-ЗФ.
Самолетов Ту-2 во время войны было выпущено от 800 до 1100 (по разным источникам), общее число произведенных самолетов Ту-2 составило 2500.
С наступлением Второй мировой войны Америка оказалась в ситуации, схожей с той, в какой страна была перед Первой мировой войной. Боевая мощь США в августе 1914 года была представлена 23 самолетами военного назначения. Для сравнения: тогда Франция имела 1400 боевых самолетов, Германия — 1000, Россия — 800, Англия — 400... В 1939 году США имели всего 1700 самолетов, из которых лишь 800 были «самолетами первой линии». Англия имела тогда 2000 таких самолетов, а Германия 4000 современных самолетов. Япония к 1937 году произвела 2100 самолетов и в конце 30-х годов строила ежегодно по два авианосца.
Впрочем, американская авиационная индустрия чрезвычайно быстро наращивала производство. Если непосредственно перед войной темп выпуска самолетов состашшл 2000 в год, то уже в 1943-м он составил 4000 в месяц! За период с 1940 по 1945 год ВВС США получили 230 тысяч самолетов! Помимо оборудования для авиационных заводов СССР получил по ленд-лизу 18 тысяч самолетов, 2,25 млн. т стали, 400 тыс. т меди, 250 тыс. т алюминия.
Несомненно, не будь советского солдата, Гитлер поставил бы на колени значительную часть мира. Он и не скрывал, во что хотел превратить нашу страну, наш народ. Бесчестны те, кто забывает о гигантских людских и материальных потерях нашей страны, сумевшей противостоять этим планам. Но столь же неправильно утверждать, что мы были чуть ли не одни в борьбе с гитлеровской коалицией.
Один из сподвижников А. Н. Туполева — Л. Л. Селяков говорил, что Туполев призывал, исходя из наших ограниченных технологических и прочих возможностей, очень просто компенсировать отставание в качестве наших машин от Запада: «Черт с ним, возьмем количеством». В какой-то степени следование этой линии, если она вообще была, подтверждается опытом создания серии пассажирских самолетов Ту-124, Ту-134, Ту-154. Но в целом жизнь показала, что количеством мы тоже взять не можем. На это указывают приведенные выше сравнительные данные о выпуске в разных странах Запада и у нас тяжелых машин разного класса. Опыт того же ОКБ Туполева показал, что уж если мы чем и можем взять, так это качеством. Голодные нередко более смекалисты, чем сытые. Опыт создания таких выдающихся машин, как Ту-22М, Ту-144, Ту-160, подтверждает, что умом российские ученые, инженеры, летчики никак не обделены.
Обделены мы были в другом. Если у нас и были серьезные, стратегические проблемы, то это в основном проблемы страны в целом — проблемы с руководителями высшего уровня. Через несколько сотен лет после того, как эта мысль была впервые высказана в России, А. И. Солженицын повторил, что наша национальная задача на ближайшие 40—50 лет может быть сформулирована как «сбережение народа». Что и говорить, поводыри богатейшей страны, особенно реформаторы последних десятилетий, сделали все, чтобы поставить собственный народ на грань катастрофы. Символично, что одним из наиболее преуспевающих ведомств в стране является не производитель зерна или самолетов, а Министерство по чрезвычайным ситуациям...
«Ограбили Россию до нитки», — говорил с основанием писатель. Поводыри не только допустили это, но были впередсмотрящими. Суть выживания народа состоит, наверное, в том, чтобы восстановить его способность рождать и подымать наверх самых достойных и талантливых. Ведь известно издавна, что стадо баранов, возглавляемое львом, сильнее стаи львов во главе с бараном.
Реанимировать униженный народ невозможно, если его насаждаемыми героями будут оставаться бесстыдные владельцы дворцов, королевских яхт и вилл, бесталанные певички и шуты, наглые чиновники, «авторитеты» и «слуги»...
По пальцам одной руки можно пересчитать людей, которых народ готов назвать сегодня своей совестью. В такой беде, наверное, надо звать на помощь предков. Слава богу, были в нашей истории, и недавней истории, люди поистине великие. Одним из них, несомненно, был Михаил Михайлович Громов. Потому как в нем высшая порядочность соединилась с высшим умом и прозорливостью, высшей смелостью и мужеством, высшей преданностью общественным идеалам, интересам отечественной авиации, будущему страны.
...Мало какой самолет и мало какой летчик нашей страны получили мировое признание — нетрудно убедиться в этом, заглянув в любые иностранные справочники и энциклопедии по авиации. В чем-то виноваты мы сами, в чем-то сказывается необъективность «судей» международного авиационного сообщества, но это факт: нас не знают, никогда особо не любили и не любят поныне. Одним из редких исключений был в свое время Михаил Михайлович Громов. После выдающихся перелетов 1920-х годов в Японию и по столицам Западной Европы французские летчики- ветераны избрали его почетным членом своего знаменитого на весь мир клуба и назвали лучшим летчиком. Это неофициальное звание было подхвачено прессой других стран. И это при том, что главные достижения летчика — действительно мирового уровня — еще только предстояли. Громов мастерски, без особых потерь первым испытал около 20 разных типов отечественных самолетов 1920-1930-х годов: от крохотных до ги
гантов «Максим Горький» и ТБ-7. Он — один из наших первых Героев и участников уникальных дальних перелетов, в которых, особенно в 1930-е годы, наряду с выдающимися качествами пилота, навигатора проявил и необыкновенную физическую силу. Это неудивительно, ведь в юности Громов был одним из лучших российских спортсменов-тяжелоатлетов и всю жизнь увлекался различными видами спорта. Блестящий знаток новейшей авиационной техники, учившийся еще у Жуковского на его знаменитых курсах, глубокий специалист в области психологии и физиологии, тонкий ценитель литературы, музыки, театрального и живописного искусства, человек, чьим присутствием и мнением дорожили и сильные мира сего (достаточно вспомнить Сталина, Рузвельта, Черчилля), он был героем-интеллектуалом. Он не имел высшего образования, но повседневной работой над собой достиг высшей образованности. Летчик, профессор в 36 лет, он во многом стал первопроходцем в науке о летных испытаниях, в психологии летного труда. Несколько написанных им книг, даже небольших, ждала одинаковая судьба — они быстро становились настольной книгой летчиков и библиографической редкостью, ценимой не только авиаторами. Это в полной мере относится и к книге его воспоминаний. Трудно переоценить роль М. М. Громова как педагога и организатора — в самом широком смысле этих слов, как, наконец, военачальника, командовавшего в войну и воздушными армиями. Однако ни этого, ни того, что он организовал знаменитые впоследствии Летно-исследовательский институт (в 1940 году) и Школу летчи- ков-испытателей (в 1947 году), не хватило, чтобы воздать ему должное при жизни. Он видел в прожекторах славы тех же летчиков, людей вполне достойных того, но сделавших несравнимо меньше, чем он. Около полувека назад были названы первые десять заслуженных летчиков-ис- пытателей СССР. Все они в той или иной мере — его ученики, естественно, почитавшие его первым летчиком-испытателем страны, но его в этом списке самых-самых не было! И. В. Сталин любил В. П. Чкалова и назвал его великим летчиком нашего времени, но был сдержан и строг с его учителем — Громовым! Г. Ф. Байдуков, биограф и друг Чкалова, сам блестящий пилот и многогранная личность, отдавая должное Чкалову, открыто признавался тем не менее, что их общим богом был Громов. «Он видел нас насквозь, — говорил Георгий Филиппович. — Но не давал никому и малейшего повода подумать об этом». Байдуков сознавал, что Чкалова и его самого, людей из простого народа, вознесли именно за то, что на их примере можно было показать, что дала Советская власть человеку из самых низов. Громов, человек, не скрывавший своего дворянского происхождения, беспартийный, всегда сторонившийся власть предержащих, во многом был противоположностью им. Более того, он мог вступить в спор с этой властью, когда вытаскивал с Колымы таких людей, как С. П. Королев, когда заступался за того же хулиганившего в молодости Чкалова... Сталин заботливо накрывал пледом у себя на даче на юге «уставшего» после застолья Чкалова. Громов же, чело’век совершенно другого масштаба достижений, никогда не был так приближен к всесильному вождю, который хоть и уважал его, и ценил, но всегда был с ним только на «Вы». При всей своей былинной стати подлинного, почти античного героя, при всем своем вкладе в становление авиации страны и утверждение ее славы, при всех своих заслугах в победе над фашизмом Громов оставался в тени. Более того, слышал несправедливые, незаслуженные укоры...
Свежие комментарии